Главная » Книги и сценарии » Музыка, которую мы видим
Музыка, которую мы видим
Шароев И. Г.
Музыка, которую мы видим.— М.: Советский композитор, 1989.— 256 с: ил.
Эта книга о профессии музыкального режиссера. Ее автор, народный артист СССР, профессор, известный советский режиссер, не стремится к гладкому и мягкому повествованию. Вероятно, в книге есть и поводы к возражению. Но яркая авторская мысль, убедительная мировоззренческая позиция придают ей притягательную силу и личностный характер, что очень важно в решении таких заявленных проблем, как интерпретация классики и современности, взгляд на оперу сегодня, понимание роли телевидения как средства массовой коммуникации для музыкального театра, отношение к фольклору...
Для широкого круга читателей, интересующихся театральным искусством.
От автора
С музыкой тесно связана вся моя жизнь.
С самого раннего детства вокруг звучала музыка. Я родился в семье музыкантов, с четырех лет обучался музыке. Как режиссер 30 с лишним лет работаю в самых разных музыкальных жанрах: опере, оперетте, фильмах-операх, документальных музыкальных фильмах, театрализованных концертах, массовых представлениях.
Везде — музыка. Музыка заполнила мою жизнь, она дала мне огромную радость, радость постижения подлинных глубин творчества. Уверен: не занимайся я повседневно музыкой, намного однообразнее и унылее стала бы моя жизнь. Ни драматический театр, ни кинематограф, ни живопись, ни скульптура никогда не давали мне таких глубоких потрясений и такой подлинной радости, как музыка.
Я благодарен людям, которые ввели меня в мир музыкального творчества. И в первую очередь — композиторам. С музыкой советских композиторов связано большинство моих работ в театре, кино, на телевидении, при постановке массовых представлений. Мне посчастливилось вместе с ними создавать новое, и это составляет предмет моей профессиональной гордости. Участие в созидательном процессе — живом, захватывающем, бурном, своеобразном «атомном котле» творчества — приносит мне много радости и дает творческий заряд.
Мне очень повезло в жизни, потому что с самых первых самостоятельных шагов в своей профессии я работал и работаю по сегодняшний день с замечательными, талантливыми людьми: с одними — в тесном, многолетнем содружестве, с другими — эпизодически, так сказать, в пунктирном общении.
С Тихоном Николаевичем Хренниковым нас связывает многолетняя дружба: мы работали над комическими операми «Доротея» и «Золотой теленок», а также тремя фильмами, посвященными его творчеству. Вместе с Евгением Федоровичем Светлановым в 1960 году осуществили в Колонном зале Дома союзов первую постановку оперы Вано Мурадели «Октябрь», а позднее я снял фильм «Дирижер» о творчестве Е. Светланова. С Дмитрием Борисовичем Кабалевским работа шла над детскими театрализованными концертами в Кремлевском Дворце съездов. С Владиславом Игоревичем Казениным работали над театрализованными концертами. С Константином Ираклиевичем Массалитиновым многие годы тесно сотрудничали, искали решение современного русского народного действа. С Назибом Гаязовичем Жигановым работали над созданием новой оперы. С Христофором Сослановичем Плиевым написали первую осетинскую оперу «Коста» (где мне довелось быть автором либретто и постановщиком). С Александром Георгиевичем Флярковским и Юрием Михайловичем Чичковым готовили к постановке опер (я был автором либретто и постановщиком).
Общее дело — всегда общий поиск и неизбежно связанный с этим творческий риск. Могут быть и радости, и неудачи, от которых никто не застрахован.
Хочется сказать, что судьба подарила мне встречи с такими замечательными музыкантами, как А. А. Юрлов, К. Б. Птица, В. Г. Соколов, А. Н. Лазарев, И. Г. Агафонников, Ю. И. Симонов, В. Н. Минин, М. Ф. Эрмлер. Над созданием концертов-спектаклей в Кремлевском Дворце съездов трудился с А. Г. Новиковым, А. Н. Пахмутовой, А. А. Бабаджаняном, С. С. Туликовым, Я. А. Френкелем, О. Б. Фельцманом. Не могу не сказать самых добрых слов и о балетмейстерах, с которыми довелось работать,— Ю. Н. Григоровиче, Т. А. Устиновой, М. С. Годенко, художниках В. Я. Левентале, В. К. Клементьеве, А. Ф. Лушине. Много связано в моей жизни с этими людьми, немало интересного можно рассказать о каждом из них. Но нельзя объять необъятное. Все-таки позади 35 лет работы.
И когда я перебираю программы спектаклей и концертов — а их достаточно накопилось за эти годы,— я словно заново встречаюсь с выдающимися мастерами, с которыми посчастливилось мне работать. Смотрю программы, вчитываюсь в них, вспоминаю спектакли, концерты, фильмы. И удивляюсь: оказывается, так много помнится — и в значительном, и в деталях.
Как-то не принято у нас объясняться в любви друг к другу. Исключения — юбилеи. А так, в обыденной ситуации, не принято. Очевидно, потому, что в горячке работы нам не до выяснения отношений (даже позитивных), тем более что наша работа таит в себе уйму негативных профессиональных проблем, которые постоянно приходится решать. Никогда я не обращался к людям, которым стольким обязан, с признаниями в любви. Ныне, когда я собрался это сделать, далеко не все из них, к глубокому сожалению, могут услышать слова моей благодарности.
Время ушло, многое переменилось в жизни, и сегодня Ленинградская филармония носит имя Д. Д. Шостаковича, Русской хоровой капелле присвоено имя А. А. Юрлова, одаренные дети учатся в музыкальной школе имени В. И. Мурадели, по радио звонко поет пионерский ансамбль имени В. С. Локтева, и спешат по утрам юные бакинские музыканты в специальную музыкальную школу имени профессора Г. Г. Шароева...
В той невообразимой гонке, в которой проходит наша жизнь, мы поздно иногда спохватываемся, когда хотим сказать людям хорошие слова. Может, боимся, что нас обвинят в сентиментальности?
...35 лет — срок не малый. Многое изменилось за это время в жизни, в искусстве, многое пришлось поменять в самом себе, в своей профессии.
Но навсегда в моем сердце — глубокое уважение к тем прекрасным людям, которых я с гордостью могу назвать товарищами по работе. И я благодарен судьбе за то, что наши пути скрестились, что мне довелось работать с людьми, чье творчество вошло в сокровищницу советской культуры. Многому в свое время научился я у мастеров, многое почерпнул в общении с ними. Мне всегда казалось, что и они ко мне относились хорошо — по крайней мере, работали мы всегда дружно, слаженно, понимая друг друга.
Я безгранично верил и верю этим людям, их таланту, вкусу, культуре и стараюсь в своей профессии с ними сравняться.
Да, это большая радость, что через мою жизнь прошло много музыкантов, поэтов, режиссеров, художников, деятелей театра — людей, оказавших огромное влияние на меня. Но, повторюсь, к композиторам отличительное у меня отношение, ибо это люди особого душевного склада, особой духовной организации — создатели, творцы, артисты. Можно понять, как зарождается замысел у поэта, художника, писателя, скульптора. Их творчество конкретно, осязаемо, оно имеет точную образную систему. Поэт вооружен словом — а оно всегда конкретно, имеет точный смысл — как собственно в тексте, так и в подтексте. На вооружении художника и скульптора — видение, зрительные образы, производственный материал — краски, холст, гипс, мрамор. Все это осязаемый материал, который можно разъяснить и воплотить в словах, красках, рисунках, даже попросту потрогать руками. А музыка? Здесь конкретность слова и пластического изображения отсутствует. Это область чистых эмоций. Гейне не случайно утверждал: музыка начинается там, где кончаются слова. Очень точное определение — там, где кончается конкретная образность и начинается область эмоциональных ассоциаций, то высокое парение в музыке, с которым не сравнится ничто — ни поэзия, ни живопись, никакое другое искусство.
Я участвовал в работе многих наших композиторов, на моих глазах рождались замечательные произведения: от самых крупномасштабных — опер, до «малых форм» — песен. Но до сих пор (и пора в этом честно признаться) не могу ни понять, ни почувствовать механику возникновения музыкальных образов. Что является движущим импульсом в композиторском творчестве? Как рождается в душе творца музыка, что питает фантазию композитора?
Мне кажется, что и они сами то ли не любят говорить об этом, то ли объяснить не могут сложную психологию собственного творческого процесса. И. П. Павлов назвал людей художественного склада людьми «эмоционально мыслящими». Это в первую очередь относится к композиторам. С талантливым музыкантом работать всегда интересно, и, чем он талантливее, тем с ним интереснее. Потому что завтра один из них принесет песню, которую запоет вся страна и будет петь многие годы. А симфонии другого уже исполняются по всему миру, а третий — автор оперы, которая переживет и его, и нас с вами и навсегда останется в истории культуры...
Так что дело свое они делают и делают высокопрофессионально, талантливо, а некоторые даже гениально.
Так вот, о композиторах, об их творениях. Мы, режиссеры, должны уяснить для себя простую истину: сегодня без современной советской оперы музыкальный театр существовать не может. Советская опера — тот живительный родник, который всегда будет нести свежесть и обновление современному оперному театру. А значит, и наши композиторы должны быть не гостями в театре, тем более редкими. Нет, они должны стать близкими театру людьми, ибо от композиторов (да, да, именно от них!) зависит судьба современной оперы, им создавать произведения, которые будут развивать наше общее дело. Без этого динамического процесса сегодняшний оперный театр зачахнет.
Наша задача, задача режиссеров музыкального театра, не в том, чтобы пытаться сочинять музыку, подменяя композитора, писать стихотворения за поэта, рисовать эскизы за художника, играть за актеров, петь за певцов, готовить реквизит за реквизиторов, включать свет за осветителей — нет, наша задача совсем в другом. И дай бог силы, чтобы справиться — настолько она серьезна, ответственна и трудна. Задача была четко и емко определена еще К. С. Станиславским. Затем мысль Станиславского претерпела всевозможные толкования, причудливые переделки. Ее пересказ можно встретить почти в каждой книге, посвященной музыкальному театру,— и почти всегда почему-то без ссылок на первоисточник. А хочется вернуться к первоисточнику и привести всего одну фразу великого режиссера и никак не толковать ее, настолько просто и ясно сформулировал К. С. Станиславский основное в нашем деле; толкование и разжевывание его постулата будут только разжижать мысль К. С. Станиславского, уводить в сторону от него же самого. «Задачей оперного режиссера является услышать в звуковой картине заключающееся в музыке действие и превратить эту звуковую картину в драматическую, то есть в зрительную»[1].
Вот и все. Яснее не скажешь. Следовательно, мы опять возвращаемся к тому, с чего начали наш разговор. Музыка, музыка и еще раз музыка. Она нам диктует все — дух спектакля, его сценическое решение, художественное оформление, мизансценировку, образы, характеры, поведение действующих лиц, иначе — смерть музыке, смерть музыкальному театру. И тебе — как художнику. Другого пути в музыкальном театре нет. Это — единственный.
«Задача режиссера — выяснить, что именно хотел сказать композитор каждой музыкальной фигурой своей партитуры, какое драматическое действие имел он в виду, даже если он имел его в виду бессознательно»[2]. Так утверждал великий Станиславский, и никто до сих пор на практике не опроверг его.
Внимание к музыке, желание постичь глубины композиторского творчества, стремление воплотить ее — но именно ее, а не подогнать под свою схему то, что звучит в партитуре,— вот что определяет нашу работу.
...Итак, внимание, уважение — нет, не так, этого мало — преклонение перед музыкой! А значит — и перед композиторами.
У каждого композитора, если он талантлив, свое мироощущение, свой взгляд на многое, свое собственное отношение ко всему. Он — личность. Он не только видит мир по-своему, он — что в данном случае важнее — слышит его особенно, по-своему, со всем неповторимым своеобразием, которое и есть отличительная черта таланта. А талантливая композиторская индивидуальность — главный залог успеха будущего спектакля. Внимание к композитору, веру в него — вот что должны встречать композиторы, придя в театр. Тогда и результат будет радостней — и для автора, и для театра. Основное, что должно быть между композитором и театром,— доверие. Без доверия (взаимного, конечно) работа не может идти нормально, в ней все время что-то будет сбиваться, тормозить. Я знаю по себе, по своим многочисленным работам: если в них торжествовало доверие, они шли радостно и продуктивно, если начинались сбои, все летело... Взаимное недоверие, зародившееся однажды, будет расти, развиваться и превратит совместную работу в сущий ад. С настоящей музыкой бороться бесполезно. Музыка все равно окажется права, последнее слово будет за ней, а все твои режиссерские ухищрения окажутся притянутыми за уши, ненужными и нелепыми, в чем ты еще раз убедишься, потирая ушибленные места. Музыка — огромная сила. И бороться с ней вредно — и для дела, и лично для тебя. А постараться проникнуть в глубь нее — необходимо. И. для дела, и для тебя. Одним словом, для достижения цели необходимо «совершенно согласованное согласье всех частей» (Н. В. Гоголь). Иначе нельзя. В противном случае это не музыкальный театр, а суррогат концертного зала с драматическим театром, и ни о каком согласованном согласии и речи быть не может.
Когда я узнаю, что театр такой-то работает с композитором таким-то над новой оперой, я настораживаюсь. Как идет эта работа? Есть ли в ней со стороны театра высокий профессионализм, внимание к автору, бережное отношение к его творчеству?
Если говорить всерьез, то кто может вмешиваться в сложнейшую ткань музыкальной драматургии? Лишь единицы имеют на это право! Дирижер должен быть не просто грамотным, крепким профессионалом (этого вполне достаточно, чтобы дирижировать спектаклями, но чтобы участвовать вместе с композитором в создании оперного произведения — этого явно недостаточно). Дирижеру необходимо быть высокоталантливым музыкантом, чтобы иметь право вмешиваться в творческий процесс композитора. А режиссер? Он обязан быть музыкантом — иначе о чем же вести разговор! В. Э. Мейерхольд утверждал: «Если режиссер — не музыкант, то он не сможет выстроить настоящего спектакля, потому что настоящий спектакль (я не говорю о театрах оперных, о театрах музыкальной драмы или музыкальной комедии,— я говорю даже о драматических театрах, где весь спектакль идет без всякого сопровождения музыки) может построить только режиссер-музыкант. Целый ряд трудностей непреодолим только потому, что не знают, как подойти к вещи, как ее музыкально раскрыть...»[3].
Мейерхольд говорил о режиссерах драматических. И если уж к режиссерам драмы Мастер предъявлял такие высокие требования, как к музыкантам, то что же говорить о режиссерах музыкального театра!
Да, режиссер, повторяю, музыкального театра обязан быть музыкантом. Но сегодня и этого мало. Сегодня режиссер — активный участник создания репертуара музыкального театра, с его помощью и при его участии рождаются новые произведения. Он должен не только уметь ставить спектакли (и это, конечно, важно и необходимо, и тем не менее не так уж часто встречается!). Он обязан сам быть музыкальным драматургом, владеть методикой создания музыкально-драматического произведения. Иначе какой совет он может дать композитору? Он будет только мешать. И тогда весь процесс создания нового произведения превратится в самое страшное, что может произойти в таком сложном, неоднозначном деле,— в полное дилетантство. Ничего не может быть опаснее дилетантского подхода к проблеме создания нового оперного произведения.
Такой подход несет в себе некую «усредненность» произведению, а это заранее обрекает будущую оперу на провал или полупровал, что в сущности одно и то же.
Не позволяйте себе сбивать композитора, не давите на него... Подсказать композитору решение того или иного эпизода, как, очевидно, подсказать и сам эпизод, необходимый по логике развития действия, режиссер обязан сделать, если, конечно, в силах. Но диктовать, давить, вынуждать? Это уже не творчество, не совместная дружная работа, обусловленная ясностью цели и согласованностью действий. Это уже из других областей многообразной человеческой деятельности, скорее приближающееся к следовательской работе, нежели к работе театра с композитором.
И потом — почему в театре принято считать, что ошибки совершает только композитор, а театр всегда прав? В данном случае такое отношение обусловлено в известной мере подчиненным положением автора — ведь не к нему в гости пришел театр, а он принес в театр свое детище, так сказать, «в гости». Вот и опасно это, если он пришел в театр, как в гости. Ничего тогда не получится, не состоится рождение нового. Это прекрасно понимал Вл. И. Немирович-Данченко, скрупулезно, постоянно и — данное условие имеет очень большое значение — терпеливо работавший с авторами. Результаты этого процесса общеизвестны, ибо они вошли в золотой фонд советского оперного искусства, определив во многом направление современной оперы.
Конечно, нет у нас сегодня второго Немировича-Данченко, но есть убедительные примеры, подтверждающие, что умение работать с авторами в сегодняшней нашей театральной жизни в известной мере стало мерилом таланта режиссера и уровня его профессионального мастерства.
Н. И. Сац начинала с «чистого листа». Ничего у нее, кроме «Морозко», не было в руках. А сейчас? Десятки детских опер, созданных у нее в театре и получивших жизнь на сцене Детского музыкального театра.
Аналогичную репертуарную политику строит Московский камерный музыкальный театр. Его руководитель Б. А. Покровский стал «повивальной бабкой» (выражение К. С. Станиславского) при рождении многих камерных опер советских композиторов.
Сколько бы я ни работал с композиторами — у меня с ними почти никогда конфликтов не было, но только не потому, что у меня характер хороший. (Он у меня такой же, как у моих коллег-режиссеров. А режиссеров с хорошим характером мне встречать не приходилось!) Может, потому, что я музыкант. Может, потому, что я вместе с композиторами читаю партитуру, вся предварительная работа над спектаклем идет не по либретто, даже не по клавиру, а по партитуре, так как только в партитуре становится ясен характер музыки, ее действенная структура. К началу постановочной работы я знаю наизусть всю музыку — иначе не могу репетировать — меня все время будет держать какой-то тормоз, отвлекать, а это уже не работа. Если ты не владеешь собой, значит, тем более не владеешь процессом создания спектакля — все равно, что композитору писать музыку, параллельно разговаривая по телефону.
Я неоднократно буду возвращаться к проблеме воплощения композиторского замысла и на конкретных примерах вести предметный разговор. Потому что я практик. И могу с полным основанием говорить как режиссер музыкального театра, и либреттист, и сценарист, и постановщик музыкальных фильмов. Это — моя профессия. Брать на себя груз теоретический никогда не отважусь, это совершенно иная область — все равно, что музыковед возьмется ставить спектакль. Вряд ли получится что-либо путное. Буду говорить только о том, что знаю, что сам делал, пробовал, ставил, снимал, писал.
Музыка и режиссура — проблема сложная, малоизученная, хотя написано на эту тему немало. Все-таки здесь многое и по сей день происходит как бог на душу положит. Возможно, от этого и в чем-то легче — нет точных объективных критериев, но в то же время от этого и тяжелее — критериев-то и в самом деле нет! Надо надеяться, что будущее принесет нам эти критерии, но вряд ли и тогда сразу всем практикам станет легче. Нет, и тогда все будет зависеть от тебя самого, от твоей смелости, инициативы, нежелания повторяться и — самое главное — от твоего желания и умения постигать музыку, верно ее трактовать и дать ей точный зрительный эквивалент. Если ты это можешь делать — тогда ты режиссер музыкального театра. Если нет — то не стоит даже ходить по той стороне улицы, где стоит музыкальный театр — ничего, кроме конфуза, не получится. Тогда лучше уйти в драму, или в музыкальную редакцию телевидения, или еще куда — ведь в самом деле так много занятий на земле...
...Итак, музыка и режиссура: проблемы, практика, воспоминания, сегодняшняя работа, встречи, поиски, ошибки, надежды. То, с чем связана профессиональная жизнь каждого из нас.
Я буду рассказывать только о том, что было. Придумывать — ни к чему. Это иной литературный жанр. Тем более, что из того, что было, можно выбрать столько всего, что на придумки не хватит места в книге.
О своей работе писать нелегко. Слишком много связано при постановке спектаклей с твоим личным. Об этом не всегда расскажешь, ибо долог и сложен путь рождения спектакля. Он рождается в тебе, проходит через тебя, выжимает тебя всего и уходит в самостоятельную — долгую или короткую — жизнь, и существует вне тебя и независимо от тебя. И радостно это сознавать, и (признаюсь, хотя это, может, и не следовало бы делать) больно: ты вложил в рождение нового свою душу, оно твое, родное, близкое, а живет уж далеко от тебя, и не нужен вовсе ты, ибо спектакль — живой, самостоятельный организм, развивающийся по своим законам, своей логике, может, тобой и непредусмотренным, а может, и вопреки тебе, твоему мироощущению. Трудно быть объективным по отношению к тому, что делаешь сам. Поэтому мне пришлось неоднократно обращаться к мнению других — очевидно, так более точно будет вырисовываться объективная картина.
Когда рукопись сдавалась в набор, я еще раз — после немалого перерыва — заново перечитал ее. И мне показалось, что сегодня я написал бы эту книгу совсем по-другому. Многое изменилось за то время, что книга шла к читателю, и в стране, и в искусстве, и в жизни каждого из нас. Да и в моей жизни немало изменилось в последние годы — я ушел из театра, вернулся к концертной режиссуре, и о моих театральных работах теперь пишу в прошедшем времени. А пожар в Московском академическом музыкальном театре в феврале 1989 года, в котором сгорели декорации большинства постановок театра, уничтожил и все мои спектакли, теперь они никогда не будут восстановлены... Но книга написана и отражает определенные этапы моей жизни. Переписывать ее заново — значит, в известной мере, переиначивать то, что происходило на самом деле в свое время. Поэтому я решил оставить все так, как было написано, ничего не меняя.
На этом вступление заканчивается. Дальше — конкретный разговор о моей профессии. Он зачастую фрагментарен, отрывочен, лишен последовательности и гладкости повествования, потому что многое записано в разные годы — в большинстве случаев это заметки для себя, взятые из рабочих тетрадей и записных книжек. Но если, прочтя книгу, вы воскликнете вместе со мной: «Слава музыке! Слава режиссуре!» — я буду счастлив. Значит, вы согласитесь с основными положениями этой книги, а значит — и с автором.
Глава I. Музыка и режиссура
Авторы и режиссер
Когда ставишь хорошо и давно знакомое произведение, это интересно и увлекательно, хотя приходится невольно вступать в заочную полемику с теми, кто прикасался к этому произведению до тебя, и порой трудно почуять его глубинную сущность, трудно пробиться в его сердцевину сквозь броню привычных представлений, наросшую вокруг этого произведения — и в сознании других, и в твоем собственном восприятии. Вот уж когда ты мучаешься ощущением вторичности своей профессии! На борьбу с наростами привычного уходят силы, время, и то, что остается тебе для своего решения, — это, увы, именно то, что остается. На этих остатках непривычности ты и ставишь свой спектакль. А затем придет пора, и с твоим решением вынуждены будут бороться те, кто станет ставить это произведение после тебя. И так до бесконечности.
Но есть в нашем деле звездные часы, когда ты идешь первопроходцем, когда ничто не мешает тебе добраться до глубины произведения, до сути его, когда тебе не надо мысленно драться с предшественниками и с самим собой, когда перед тобой — чистое поле, и ты идешь по нему первым, зная, что тебе посчастливилось создавать то, что потом, может быть, станет привычным, традиционным. В этом случае ты чувствуешь себя создателем нового вида самолета — ведь авиаконструктор дает не только новую идею, он ее и сам воплощает в конкретную конструкцию, где органически соединены мечта и ее материальное воплощение.
Да, эти ощущения авиаконструктора и режиссера очень близки, ведь впервые создавая спектакль, ты тоже мечтаешь о синем небе, властно зовущем тебя, небе, куда ты стремишься...
Эти ассоциации рождались у меня каждый раз, когда я участвовал в постановке новых музыкальных произведений.
О либретто
Перевод повествовательного произведения в оперу — процесс сложнейший. И не только потому, что из несметного количества событий и текста нужно выбрать лишь небольшую часть, ибо весь материал немыслимо использовать в одной опере — в противном случае было бы сделано десятисерийное оперное произведение. Отбор событийного ряда и текста, вошедшего в сценический вариант,— дело привычное для любого грамотного драматурга. Главное здесь в другом, как сохранить самый дух первоисточника, каким образом, переведя повествовательное произведение в драматургическое, да еще и в музыкально-драматургическое, не потерять его глубинной сущности?
Перевод словесного образа в зримое действие — камень преткновения при инсценировках и в театре, и в кино. Вспомните: Немирович-Данченко, создав во МХАТе незабываемую театральную версию романа Льва Николаевича Толстого «Воскресение», должен был ввести драматургическую форму, позволяющую сохранить повествовательно-описательный текст Льва Толстого. С этой целью он ввел в драматургическую ткань спектакля чтеца-рассказчика — своеобразный «голос автора», ибо, когда толстовский роман превратился в пьесу, выяснилось, что диалогическим текстовым материалом (даже в исполнении первоклассных актеров) нельзя было восполнить отсутствие повествовательного пласта, в котором в основном у Льва Толстого и заключен авторский смысл, идея и авторская сверхзадача.
А что делать в опере? Ведь не пустишь же по радио на весь зал поперек музыки и пения текст? Не будем забывать — повествовательные произведения не только диалог, но и в большой мере тот описательный текст, в котором заключена философская и нравственная основа произведения.
Сложность процесса создания драматургического произведения на основе повествовательного еще и в том, что любая форма текста должна при переводе словесного обозначения в драматургическое приобретать действенное начало, вступая в сложную цепь взаимосвязей, характерных для музыкально-драматургического произведения. Любой компонент, введенный в сценическое действие, приобретает функции драматургические, превращаясь в одно из звеньев сложнейшей архитектоники, и подчиняется законам, действующим в определенной драматургической структуре, в данном случае — в опере — со свойственными этой структуре выразительными средствами, образным строем. Иными словами, необходимо найти словесному обозначению (то есть повествовательному материалу) органическое единство образной системы звукозрительного эквивалента (материала, определяющего произведение оперного жанра). Это система драматических связей, на которой строится структура оперной драматургии: не мелко-бытовая трактовка событийного ряда, а высокое обобщение, глубинная наполненность образного строя и романтика, рожденная поэтической, а не натуралистической системой образов.
Повествовательное произведение переключалось в совершенно иную ипостась, переходило не только в иную словесно-образную категорию, а в другое, так сказать, измерение — с иными выразительными средствами, иным, отличным от чтения повествовательного произведения, ощущением слова, действия, событийного ряда. И при этом необходимо сохранить дух произведения.
В чем же, собственно, состоит трудность постановки современной оперы? Ведь мы, профессионалы, прекрасно знаем, что многие опусы, созданные в этом жанре, нигде не ставятся и подолгу лежат в реперткоме или же «в портфеле» театра недвижимым грузом. И нередко отнюдь не потому, что это слабые, беспомощные сочинения. Есть среди них произведения с хорошей музыкой, но драматургия их не выстроена. Случается и наоборот. Либретто хорошее, но музыка является лишь его иллюстрацией — подобное соотношение также неприемлемо для музыкального театра. И только если композитор органично ощущает действие в музыке — музыкальную драматургию, возможно сценическое рождение оперы.
Мне представляется, что художественная правда, современные мысли и проблемы должны быть прежде всего раскрыты в музыке, в партитуре композитора.
Неоднократно знакомясь с новыми оперными произведениями, я в большинстве из них ощущал некое стремление наших композиторов робко идти вслед за либретто, которое начинает превалировать над музыкальной партитурой. В этом я вижу весьма опасную тенденцию. Она ведет к тому, что музыка становится вторичной, иллюстрирует сюжет. А ведь музыка должна определять эстетическую, художественную, философскую суть оперы. У одного и того же либретто может быть множество вариантов музыкального решения. И, говоря об этом, мне хочется обратить внимание, особенно молодых наших композиторов, на то, что не следует слепо идти за либретто. Тема, сюжет важны, они могут дать импульс созданию музыкального сочинения. В нем идея должна быть воплощена в эмоциональных образах, а не выстроена по сюжетной схеме — формально и сухо.
Как-то поздним вечером раздается телефонный звонок. Звонит композитор N. Просит прощения за поздний звонок:
— В театр дозвониться вам невозможно, вы все время на сцене,
и со сцены вас не вызывают...
Отвечаю, естественно, что сожалею, что он не может меня застать, и добавляю, что очень рад его звонку. Композитор сразу приступает к делу. Он написал оперу. Но сначала:
— Я завезу вам либретто, почитайте, потом встретимся, я поиграю.
Протестую. Категорически. Это же нелепость: либретто в отрыве от музыки никому не нужно, оно — суррогат драматургии и несет чисто сюжетные функции, и только. Более того — меня в опере никогда не интересует сюжет как таковой, ибо опера не детективный роман. Мне интересно, как этот сюжет «разъяснен» музыкой, как он решен композитором — главным и основным драматургом оперного произведения. Пусть не обижаются на меня либреттисты (я сам либреттист и написал достаточное количество либретто, причем все оперы, написанные по моим либретто, были поставлены), но либретто — лишь пунктир драматургии оперы, а идейно-художественный центр — музыкальная драматургия: весь подтекст в музыке оперы. Поэтому начинать знакомство с новой оперой по либретто я считаю вредным, так как создается ложное представление о музыкальном произведении. Опера ценна органическим единством музыки и слова, музыки и либретто. П. И. Чайковский утверждал: «...Я всегда стремился как можно правдивее, искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте»[4]. Ему словно вторит К. С. Станиславский: «Слово — тема для творчества композитора, а музыка — его творчество, то есть переживание данной темы, отношение к ней композитора. Слово — что, музыка — как»[5]. Очень точно и очень верно сказано. Рассматривать либретто в отрыве от музыки, по-моему, нелепость. Не изучаем же мы отдельно музыку оперы, исключив текст либретто.
Эдуард Багрицкий написал либретто «Дума про Опанаса», где есть прекрасные стихи, ибо они созданы замечательным мастером поэтического слова. Но в целом либретто производит странное впечатление — то ли это переделанная, пересказанная знаменитая поэма Багрицкого, то ли он остановился на полпути к пьесе. Читаю «Думу...» и не могу избавиться от чувства неудобства из-за чего-то несостоявшегося, несвершившегося. Ясно одно — лишенное музыки, музыкального подтекста, музыкального действия (то есть основных компонентов жанра, без наличия которых конгломерат слагаемых оперы неточен) либретто неполноценно. Хотя написано оно прекрасным поэтом, и стихи там такого высокого качества, какого ни в одном современном либретто я не встречал. Вот что такое — читать либретто без музыки.
И уж совершенно неожиданный, но чрезвычайно показательный пример из классики — либретто «Пиковой дамы». Мы свыклись с ним, оно знакомо нам с детства и, освященное могучей музыкой Чайковского, воспринимается через призму этой музыки. Но музыкальные критики 90-х годов прошлого столетия еще не находились под гипнозом музыки «Пиковой дамы» и откровенно высказывались по поводу некоторых сюжетных нелепостей либретто. А проблему великой оперы критика оценила достаточно ядовито: «карточный вопрос». Думаю, виной тому стали не критики, а либретто, коллективными авторами которого были, кроме Модеста Чайковского, директор императорских театров И. А. Всеволожский, начальник конторы В. П. Погожев и начальник монтировочной части Домерщиков (!). Вот свидетельство самого М. И. Чайковского: «...Из всего либретто сценариум этих двух сцен (имеется в виду сцена бала и сцена у Зимней канавки, равно как и перенесение действия из конца царствования Александра I в екатерининскую эпоху.— И. Ш.) постольку же мой, сколько всех присутствовавших на этом заседании. Кроме того, И. А. Всеволожский внушил еще много изменений в подробностях остальных сцен сценариума»[6].
Так вот, критика 90-х годов недоумевала по поводу либретто оперы и «карточного вопроса».
Почему в начале сцены в игорном доме Елецкий (кстати, никогда здесь ранее не бывавший и ничего про Германа фактически не знающий) заявляет:
— Я здесь затем, чтоб мстить. Ты знаешь, говорят, что счастие в любви несет с собой в игре несчастье.
Томский. Объясни, что это значит?
Елецкий. Ты увидишь!
Значит, мы должны догадываться, что Лиза, направляясь на последнее свидание с Германом у Зимней канавки, очевидно, объяснилась с князем, призналась ему во всем и попрощалась с ним (хотя об этом ни слова не говорится). Но откуда же Елецкий знает, что Герман должен прийти сюда, в игорный дом, да еще и играть (хотя до сих пор, как мы знаем, Герман ни разу еще не играл!). Откуда он знает о том, что Герман узнал тайну трех карт и будет играть сегодня? Не иначе, как от призрака Графини проведал Елецкий, что старуха открыла Герману тайну трех карт...
Боюсь, что меня обвинят во многих грехах, но я не могу не согласиться с горькими определениями, данными критиками прошлого столетия. В самом деле, начиная с III картины (сцены бала) «сквозное действие» Германа и даже всей оперы неожиданно ломается, направляется в диаметрально противоположную сторону. И начинается цепь событий, не подготовленных и не оправданных предыдущим развитием действия. Почему Герман вдруг бросает Лизу, забывает о ней и как маньяк устремляется в спальню Графини? Почему Герман, бегущий в игорный дом, наталкивается совершенно случайно на Лизу, ждущую его на набережной? Почему он вдруг начинает петь с ней изумительный по музыке лирический дуэт и через минуту, отпев любовный дуэт, исступленно кричит ей: «Кто ты? Тебя не знаю я! Прочь! Прочь!». (Некоторые оперные режиссеры долго ломали головы, как же оправдать то, что оправданию не поддается, и нашли панацею от всех бед в том, что Герман... сходит с ума. А раз он сумасшедший, то — ура! — все оправдано: он сам не ведает, что творит. Тем более, что Модест Чайковский в «сценариуме» «Пиковой дамы» именно этим и объясняет драматургические «неожиданности» в сцене у Зимней канавки.)
А уж если строго подходить к тексту либретто, там тоже можно найти немало «неожиданностей». Посмотрите: «Целый б день...». Чайковский сам писал об этом брату, объясняя, что в данном случае возникает словосочетание, которое и произнести-то будет вслух нельзя. Или же: «...Воздухом дышать весенним. Видеть что-нибудь». Если бы мы могли отрешиться от великой музыки несравненной этой оперы, хоть на час забыть ее и просто прочитать либретто «Пиковой дамы», у нас сложилось бы странное впечатление.
Однако судить по либретто о произведении нельзя, ибо смысл его в бесценных сокровищах, таящихся в музыке оперы Чайковского.
Когда вы слышите музыку «Пиковой дамы», где в музыкальном подтексте находите тончайшие психологические нюансы, тогда все становится ясным, ибо музыка, помимо огромной эмоциональной силы, подробно и точно объясняет все действие. У вас не возникает вопросов к либреттисту — в музыке досказано то, чего нет в либретто. Чайковский зачастую вносил иные акценты в либретто, переосмысливал его, а в некоторых сценах словно опровергал его музыкальным подтекстом. Он очень по-своему услышал трагедию, изложенную в либретто, и очень по-своему трактовал драматургические коллизии либретто, веря в могучую силу музыки. И оказался прав.
Искусственный отрыв либретто от музыки пагубен для восприятия, тем более, что чисто литературными достоинствами либретто зачастую не блещут, ведь не Багрицкий же их пишет...
Беда многих современных либретто — многословие, стремление все подробно объяснить, разжевать. Думаю, происходит это из-за недоверия к музыке, боязни, что музыкальный подтекст «не сработает». А между тем точность и лаконизм должны быть обязательным условием для либретто. «...Но только не упускай из виду краткость и избегай всячески многословия»[7]. Это совет композитора либреттисту. Справедливую тревогу высказывает Чайковский. Опаснейший враг оперного либретто — многословие, в котором может захлебнуться музыка. А она неизбежно захлебнется в потоке подробного описательства, разного рода мелочей — того, что опере всегда было противопоказано. Противопоказано и теперь.
Вместе с тем либретто — драматургическая основа, то есть первая ступень для создания оперы, и в нем должны быть заложены все компоненты, которые в дальнейшем при создании композитором звучащего действия — музыкальной драматургии — получат развитие и укрупнение. И надо ставить крест на либретто, которое удостаивается такого отзыва композитора: «...Сюжет никуда не годен, т. е. лишен драматического интереса и движения»[8]. Значит, либретто мертво, раз там нет движения (развития) и драматического интереса (интереса к драматической судьбе героев).
И еще одна проблема, которая тревожит в последнее время,— какая-то сглаженность, успокоенность либретто. Все идет ровно, плавно, ни одной взрывной сцены, ни одного потрясения. А оно необходимо в опере. И это прекрасно учитывали старые мастера. У них была своя, пусть старая, традиционная, но железная драматургия, где все постепенно закручивалось в такой клубок, разорвать который мог только взрыв огромной силы. Что и происходило у мастеров прежних времен.
Взять хотя бы либретто «Пиковой дамы». При всех недочетах, которые там есть, в нем есть и огромное достоинство, необходимое для создания оперы. Все происходит в кульминационные моменты жизни каждого образа, все — на пределе. Пределе эмоциональном, философском, жизненном. И тот драматический узел, о котором я говорил, в «Пиковой даме» закручен классически: действие нагнетается буквально с каждой минутой все сильнее и стремительнее, приближая героев к трагической гибели. И гибнут все три основных героя, уходя один за другим,— Графиня, Лиза, Герман. Они уходят, провожаемые трагически-ликующим мотивом трех карт — проклятьем, судьбой, роком,— от которого нет избавления, нет спасения. (Кстати, так построил Модест Ильич, у Пушкина погибает только Графиня...)
И что очень важно, в либретто выстроены кульминации как смысловые, так и сюжетные. Недостаток большинства современных либретто в отсутствии кульминации, в отсутствии того эмоционального градуса, который я называю «на пределе». Что же касается построения сюжета либретто, хотелось бы напомнить, что некое увлечение сюжетом вообще, без учета развития характеров персонажей, также отличает целый ряд либретто, написанных в последние годы (конечно, за исключением тех случаев, когда в основу либретто берется пьеса, написанная талантливым драматургом). Хотелось бы напомнить, что А. М. Горький определял сюжет как историю роста и организации человеческих характеров, как связи и противоречия, симпатии и антипатии действующих лиц. Следовательно, вся сюжетная канва, все сюжетные линии — только через живые образы, через драматургическое развитие образов. Это целиком относится и к опере, что подтверждают сами композиторы.
«Одного контраста мало для оперного сюжета; нужны живые лица, трогательные положения»[9], все — через людей, через раскрытие «тайны сердец» человеческих, через их развитие, становление. Но это уж скорее к композиторам относится, ибо умение воплотить процесс развития характеров и их взаимоотношений через музыкальное действие — необходимое условие для композитора, приступающего к созданию оперы.
О музыкальном действии
Музыкальное действие — могучий стержень в руках у оперного композитора. «Сочиняя оперу, автор должен непрерывно иметь в виду сцену, т. е. помнить, что в театре требуются не только мелодии и гармонии, но также действие; что нельзя злоупотреблять временем оперного слушателя, который пришел не только слушать, но и смотреть, и, наконец, что стиль театральной музыки должен соответствовать стилю декоративной живописи, следовательно, быть простым, ясным, колоритным»[10].
Умение построить логично развивающееся музыкальное действие отличает подлинного драматурга, которым всегда должен быть оперный композитор. В противном случае он может сочинить отличную инструментальную музыку или же писать хорошие песни, но оперу он не сочинит — не хватит дыхания.
И еще одно условие, необходимое для композитора, сочиняющего оперу: мелодический рисунок, отданный певцам. При всем уважении к композиторскому владению оркестровой тканью, блистательной оркестровке, главное действие оперы проводится все-таки через певца, через человеческий голос, и проводником музыкальной драматургии является певец. Иначе человеческий голос окажется на втором плане, от чего нарушится процесс раскрытия «тайны сердец человеческих».
Симптоматична критика, высказанная в прошлом веке в адрес одного выдающегося композитора: «Ни одной широкой, законченной мелодии, ни единого раза певцу не дается простора. Он все время должен гоняться за оркестром и заботиться, как бы не пропустить свою нотку, имеющую в партитуре не большее значение, чем какая-нибудь нотка, назначенная для какой-нибудь 4-й валторны...»[11]. И в продолжение этой мысли идет разговор о том, что композитор «не заботится о певцах», что им уготовлена «роль инструментов, входящих в состав оркестра». Если обратиться к «Пиковой даме», то мы не можем не согласиться, что симфоническое развитие отличает музыкальную драматургию великой оперы, и именно в оркестре звучит огромный подтекст, связывающий все произведение в единый, неразрывный драматургический узел. Оркестру здесь предоставлена роль колоссальная, до этого небывалая в операх П. И. Чайковского. Именно в «Пиковой даме» оркестр приобрел огромную драматургическую и эмоциональную силу. Но...
Над всеми взрывами, кульминационными моментами оркестра — могучего живого организма, над всей огромной этой силищей все-таки (все-таки!) доминирует человеческий голос, живое пение. В «Пиковой даме» все выстроено так, что именно в голосе человеческом — главное, через человеческий голос проводится и основная мысль и выплескиваются эмоции, заключенные в стальном каркасе музыкальной драматургии оперного шедевра.
Композиторы чрезвычайно чутки, они мгновенно улавливают — воспринимается их произведение или же нет, и какой «градус» реакции целого зала или отдельного слушателя.
Они могут простить многое, но только не равнодушие к своему творению — впрочем, как и все мы. Поэтому еще об одной из сложностей профессии режиссера хотелось бы напомнить. Когда слушаешь новую законченную оперу, кажется, что все части «пригнаны» точно, с учетом различных компонентов. Но приступаешь к репетиции, и постепенно расползается, казалось бы, хорошо собранная конструкция. Какие-то части начинают выпирать, и от них надо избавляться, где-то, наоборот, необходимо не сокращать, а добавлять, ибо там явно не хватает музыки. И наступает мучительнейший процесс — муки и для композитора, и для дирижера, и для режиссера. Самое страшное — резать по живому. Но это — необходимый процесс. И я не одинок в этом утверждении. П. И. Чайковский признавался: «Конечно, было очень тяжело и грустно решиться на переделки, но ради успеха оперы, которого я страстно желаю, я решился... и придумал превосходнейшие сокращения, благодаря которым сцена 3-го действия страшно выиграет, интерес слушателя будет все время crescendo и все существенное, все хорошее останется.
Сокращения в 4-м действии оказались тоже совсем не так трудны, как я ожидал»[12].
Конечно, нет ничего мучительнее для композитора, чем делать купюры в собственном произведении.

Я. Френкель, И. Шароев, С. Туликов, В. Шаинский и Ю. Чичков на репетиции в Кремлевском Дворце съездов

С М. Плисецкой и Р. Щедриным

С В. Казениным

На сцене Кремлевского Дворца съездов. Р. Щедрин, Ю. Симонов, диктор Д. Григорьева, А. Ворошило, И. Шароев, Т. Синявская, М. Магомаев

С Т. Хренниковым и И. Шароевой
Прислушаемся к мнению великого оперного драматурга, вчитаемся внимательно в его письма и статьи и не будем сетовать на то, что мы, дескать, ушли далеко за 100 лет, отделяющих нас от времени, когда писались эти строки, что сейчас иное ощущение художественной правды, что кино и телевидение приучили нас к реальности, вещизму, конкретности и безусловности художественной правды, следовательно, что эстетическая позиция Чайковского (извините!) устарела. Но здесь начинает проявляться иная позиция. Конечно, многое мы воспринимаем иначе, чем люди конца XIX века. Мир стал другим за прошедшее столетие. Многое изменилось и в музыке — рождались и отмирали различные стили и направления, было даже и такое, когда Чайковского не только отвергали, но и просто запрещали. Но вот прошли годы и годы, а мы по сей день восхищаемся несравненной музыкой «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», симфониями, романсами. Вечно живая, вечно юная музыка, всегда и навсегда наша современница, нужна нам, необходима и сегодня. Если музыка Чайковского жива и идет через столетия от поколения к поколению — значит, жива и эстетическая позиция, из которой исходил ее творец. Давайте попытаемся не только понять, но и сердцем ощутить, какими побудительными причинами вызваны те или иные письма композитора — эмоциональные, горячие (бывает, и сумбурные), но всегда предельно искренние, идущие от самых сокровенных душевных глубин, как и его музыка. Письма, в которых Чайковский отстаивает то, что дорого ему в жизни, в музыке, в творчестве, и не будем спешить...
О действующих лицах
Как обращаться с действующими лицами при создании произведения? Каждый настоящий автор это знает про самого себя, однако редко кто высказывается на эту тему. Но странное дело — все знают, а почему же на художественном совете в театре прослушиваются десятки произведений, профессионально написанных, а не трогающих, не вызывающих желания ставить их, работать над ними... И не только у меня. Это мнение общее, оно складывается у целого ряда деятелей театра — дирижеров, актеров, художников. И совсем не потому, что в театре торжествует скептицизм, негативное отношение к новым произведениям. Все как раз наоборот. Я уверен, в любом музыкальном театре новое произведение выхватят из рук композитора, он и оглянуться не успеет, было бы оно только талантливо и, по выражению Чайковского, «трогательно»! Любой театр мечтает о такой современной опере, любой театр с энергией возьмется за нее, вложит в нее душу, чтобы сделать спектакль интереснее, свежее, необычнее, чтобы стать первооткрывателем.
Поэтому на каждый художественный совет, где предстоит прослушивание нового произведения, все идут с надеждой — а вдруг на этот раз? — и с хорошим настроением, готовые первыми зааплодировать яркому и нужному театру произведению.
Почему же оставляет тебя спокойным, проходит мимо произведение, сделанное вроде бы со знанием дела, хорошо драматургически сбитое? Может, причина в том, что автор мало любил своих героев, когда писал оперу? «Ну вот еще! — скажут мне авторы.— Нашел причину!» Но как это ни прискорбно, эта причина зачастую становится главной в том, что грамотно, профессионально написанное произведение оказывается неожиданно для его создателей никому не нужным. Оно написано без потрясения, сочувствия и любви к своим героям, эти качества отсутствуют в произведении, а если этого нет — кого же оно может потрясти или хотя бы тронуть? Музыкальной исповедью души назвал Чайковский свой творческий процесс. И я уверен: если исповеди души нет в произведении — никакое профессиональное мастерство не спасет дела. Вспомните: когда загнанный судьбой в ловушку Герман (к тому времени уже ставший дважды убийцей, ибо Графиня умерла из-за него, и Лиза по его вине кончила жизнь самоубийством) сам заканчивает жизнь самоубийством, мы — хоть все это слышано и видано сотни раз — не можем удержаться от возгласа, мы внутренне кричим: «Остановись!» — будто на наших глазах уходит из жизни близкий человек — сын, брат, друг...
Да потому, что к этому моменту Чайковский так нас влюбил в Германа, что мы ему сочувствуем, сопереживаем, как родному человеку. Каков же путь к достижению такой вот влюбленности зрителя — слушателя в героя, такого сочувствия ему в его горе и активнейшего сопереживания ему в беде? «...И когда я дошел до смерти Германа и заключительного хора, то мне до того стало жаль Германа, что я вдруг начал сильно плакать... Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать ту или другую музыку, а все время настоящим, живым человеком, притом мне очень симпатичным»[13]. Так сам Чайковский объяснил нам одну из тайн своего творчества. Необычайным чувством наполнены письма Чайковского о Татьяне — любимом им образе, Татьяне, которой он отдал много душевных сил и сердечного тепла. И, думается, иначе нельзя. Вообще, классики нам оставили примеры любви и уважения к своим героям; они учат нас чрезвычайно бережно относиться к героям, не обижать их грубым нажимом, не заставлять совершать действия, неугодные им, словом, беречь их и любить. Тогда и сами герои будут вести себя хорошо. «...Живите жизнью описываемых лиц, описывайте их внутренние ощущения, и сами лица сделают то, что им нужно по их характерам сделать, то есть сама собой придумается и явится развязка, вытекающая из характера лиц...», — призывал Лев Толстой[14]. И ему надо следовать.
Навсегда хрестоматийным останется другой пример. Помните, Пушкин поражался, что Татьяна делает совсем не то, что хотел он, она ведет себя так, как хочется ей, а не ему, автору! Как он изумился, когда Татьяна вышла замуж!
Вот это отношение! Татьяна вытворяет что угодно, а сам автор бессилен что-либо изменить в ее поведении! Потому что художник выявляет объективные закономерности того или иного явления, может быть, как это ни парадоксально, вопреки субъективному желанию автора и его логике. Но в конечном результате субъективная авторская логика, вынужденная подчиняться объективной логике исследуемого явления или же предмета, совпадают. Тогда происходит рождение объективной истины, коей в произведении искусства является художественная правда. «...Действующим лицам нельзя подсказывать, как они должны вести себя. У каждого из них есть своя биологическая и социальная логика действия, своя воля»[15]. Так утверждает А. М. Горький. И абсолютно искренне, исповедально звучит запись в дневнике Аркадия Гайдара по поводу «Военной тайны», что никто не знает, как ему жаль Альку, жаль до боли, что он в конце книги погибает. Но он ничего не может изменить... Посмотрите — самые разные авторы сходятся в одном — в отношении к своим героям. Они их любят, берегут и защищают. Очевидно, иначе нельзя.
У классиков живы и близки им не только персонажи их произведений, к которым они относятся бережно, с огромной осторожностью. У них и неодушевленные предметы, и атмосфера становятся живыми и ведут себя так, будто наделены человеческими качествами. Посмотрите, у молодого Гоголя в «Ночи перед Рождеством»: «...Шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь». Вот так, ни более, ни менее — ночь, которая в состоянии внушить и весело смеяться. И сама украинская ночь переходит в ряд живых существ, раз уж она обладает этими чисто человеческими качествами...
Только так бывает у настоящих художников.
О неудачах и открытиях
Композитор написал оперу. Позади несколько лет напряженного труда, поисков, сомнений, бессонных ночей, метаний. И вот — результат — опера. Что ждет ее? Какая жизнь уготована ей на сценах театров? А может, не жизнь, а прозябание на пыльных архивных полках?
Конечно, авторы мечтают о том, чтобы их произведения поставили на сцене, в театре. Они пишут оперы, балеты, оперетты не для того, чтобы пополнять архивные залежи. И все они прекрасно знают, что Чайковский высказал когда-то очень печальную и горькую истину: «Опера, не поставленная на сцене, не имеет никакого смысла»[16]. Ощущение не поставленного на сцене произведения, написанного для театра,— тяжелейшее ощущение для автора. Произведение, которое выношено, выстрадано, которому отдано много душевных сил, много сердца, уж не говоря о том, что много времени, не состоялось. Это травма для композитора. Это сердечная рана, которая постоянно саднит, кровоточит и заживить ее нечем. Единственное лекарство — поставить это произведение в театре. А если так и не поставят? Ведь такое бывает, и довольно часто. Не одни цветы и лавры в композиторском деле, когда он приходит в театр, есть и тяжелый хлеб.
Много радости, как я уже говорил, доставила мне работа с композиторами. Но сколько же мук претерпел я с некоторыми из них! Сколько невидимых миру режиссерских слез пролито из-за нескольких тактов музыки, какие страсти — и авторские, и дирижерские, и режиссерские — разыгрывались, чтобы убрать из музыки длинноты, затягивающие действие, а зачастую и попросту убивающие его!
Бывает, дерется автор за каждую ноту, с пеной у рта, со страданием, болью, даже с письмами, жалобами в различные инстанции, порой самые высокие. Закусив удила, схватив картонный меч, он рьяно размахивает им, считая, что отстаивает чистоту своего творчества, а на самом деле — губит свое же детище, превращая его в аморфное, тягучее действо, лишенное концентрированности и упругости. Сколько красноречия произведено на свет, чтобы убедить автора внести некоторые изменения в первоначальный вариант! И как нелепо выглядят порой такие отношения взаимного недоверия, раздражения, поисков промахов и ошибок. О каком творчестве может быть тут речь, когда такой тончайший, я бы даже сказал, хрупкий психологический процесс, каким является творчество, превращается в унылую склоку.
Потом, если все кончается благополучно и все шероховатости и недоразумения забываются, мы, чтобы не очень обижать друг друга, называем это «творческим поиском». Но когда неблагополучным финалом заканчивается длительная работа всего театра над новым спектаклем, то каждая заноза, каждая зазубрина гипертрофируется, вырастает до каких-то чуть ли не трагических символов, превращается в стрелы, и стрелы эти летят в тебя, иногда протыкая насквозь. А лексика при этом, тексты какие, заслушаешься! Шекспир! И немного — Зощенко. Ну и Булгаков, конечно.
Сколько на этом потерял каждый из нас — и времени, и сил, и нервов, и сколько ненужных эмоций потрачено, вместо того, чтобы сохранять их для новых свершений, новых поисков — лихорадочных поисков не только чужих недостатков, но и обретения собственных достоинств...
И все-таки бывает и такое: произведение поставлено и — неудача. Кто тут виновен, трудно установить. Я замечал много раз: когда успех, к нему все имеют отношение, даже хозяйственная часть театра. А вот в случае провала никого не найдешь — все мгновенно разбегаются. И автор валит все на театр: театр виноват. Театр отругивается, доказывая, что автор принес не то, что надо было; в вышестоящих инстанциях рождается вопрос: а зачем брали, если... Словом, полный конфуз.
И если так складываются отношения между автором и театром, то они начинают строиться в основном на полном абсурде (по одному из толкований, абсурд (лат.) — «ab surdus» — ответ глухого (!). Конечно, когда вместо нормальных взаимоотношений все основывается на «ответах глухого», толку от этого ждать нечего.
Неудача может постигнуть каждого. Всех, кто отважился идти своим собственным путем, порой подстерегали неудачи. Но не надо суетиться и пытаться оправдываться или открещиваться. Как сказал один многоопытный автор: «Необходимо пройти через ряд неудавшихся опытов, чтобы дойти до возможной степени совершенства, и я нисколько не стыжусь своих оперных неудач. Они послужили мне полезными уроками и указаниями...»[17]. Это слова П. И. Чайковского, прошедшего в своем долголетнем рыцарском служении оперному театру самые различные этапы. В том числе и неудачи. В творчестве мы постоянно учимся у классиков. Давайте учиться у них и мудрости жизненной. Вчитайтесь в спокойную, полную достоинства интонацию своеобразной творческой исповеди великого композитора, и вы услышите, сколько честной мудрости в его признании.
Как мы часто торопимся вместо того, чтобы спокойно взвесить все, определить причины неудачи, чтобы в будущем не повторять ошибок, приведших к ней.
А если уж спектакль провалится! Конечно, главным виноватым станет все-таки композитор. Однако — провалились опера (то есть произведение композитора) или же спектакль? Это установить трудно. Особенно в премьерной горячке. Должно пройти время, прежде чем станет ясно, кто виновен, автор или театр. История музыкального театра сохранила хрестоматийные примеры, когда проваливались гениальные оперы. Список общеизвестен — «Кармен», «Травиата» и ряд других, полупровал на премьерных спектаклях «Чародейки». А потом прошло время, и выяснилось, что это шедевры. Объясняются неудачи разными причинами, лежащими за стенами театра, в основном общественными, социальными. А если причины все-таки лежат внутри театра? Неверная трактовка музыки дирижером; примитивная, отсталая постановка режиссером, неумение и неспособность уловить то новое, что принес автор своим произведением, требующим кардинально пересмотреть все десятилетиями проверенные режиссерские приемы и ухищрения, которые в прежних опусах «проходили»; ошибочное распределение партий; нетворческое решение оформления художником — разве этих причин мало для того, чтобы премьера провалилась? Я уверен — так бывало. В подтверждение тому еще один хрестоматийный пример — чеховская «Чайка». Ведь после оглушительного провала в Петербурге, когда Вл. И. Немировичу-Данченко с огромным трудом удалось буквально вырвать пьесу у автора, он не переделал в ней ни строчки и с Художественным театром ничего не «дорабатывал». С точки зрения авторской, «Чайка» пошла у «художественников» в таком же варианте, в каком она шла и в Александринке. Но там был оглушительный скандал, а здесь — огромный успех, общественное признание, в результате чего «Чайка» навечно оказалась в стремительном полете на МХАТовском занавесе. Что же произошло? Простая театральная история. Изменилась режиссерская трактовка, определившая все в спектакле, и, естественно, в первую очередь — актерское исполнение. Конечно, нельзя обвинять Александринку в том, что в режиссерском составе этого прекрасного театра не нашлось Станиславского и Немировича-Данченко, но ведь там, в Александринке, играли знаменитости, а в Художественном — в основном молодые, только начинающие актеры. Однако пьеса — провальная, дискредитированная «Чайка», принесшая при своем первом рождении столько горя автору,— при вторичном рождении оказалась, на счастье всего русского театра, да и всей русской культуры, в руках двух режиссеров огромной силы таланта и мастерства и — обстоятельство чрезвычайно существенное! — близких по духу Чехову, тонко понимающих сущность его творчества. Пьеса была спасена и спасена навсегда.
Вот что такое режиссерское решение, как от него многое зависит в изменчивой театральной судьбе нового произведения, созданного автором для театра. Главное — не подходить к нему с обычным, выработанным стереотипом [напоминаю «stereo» — твердый, «tip» — отпечаток (греч.)] и не очень держаться за традиции при оценке новых произведений, потому что традиции тоже ветшают от времени, иногда можно и не заметить, что традиция превратилась в штамп (Мейерхольд верно говорил: «Штамп — обессмысленная традиция»). От ощущения режиссурой нового, свободного от штампов, многое зависит в судьбах только что рожденных произведений, а значит, в дальнейшей судьбе музыкального театра.
И все-таки мы — режиссеры, дирижеры, художники — представляем, по определению искусствоведов, «вторичные» формы художественного творчества. Возможно, мне, режиссеру, и обидно быть во втором эшелоне, но уважаемые искусствоведы убедили всех нас, что это в самом деле так и ничего постыдного в этом нет. Наше дело — воссоздавать средствами театрального искусства произведение, созданное автором. Справедливо. Но не вполне отражает действительное соотношение сил. Разграничение на «первичных» и «вторичных» тоже достаточно условно. И дирижер, и режиссер, воссоздавая произведение, написанное автором, не могут быть лишь послушными исполнителями авторского замысла (правда, зачастую являются, но речь сейчас идет не об унылом ремесленничестве, а об искусстве); они выражают в спектаклях, создаваемых ими на авторской первооснове, свое личное художественное отношение как к проблемам, поднимаемым автором, так и к данному произведению автора. Таким образом, представители «вторичного» эшелона в процессе работы над осуществлением авторского произведения становятся соавторами композитора и либреттиста (я имею в виду не формальную сторону дела, а сущность нашей сложной профессии).
Конечно, это соавторство, и ничто иное — когда режиссер и дирижер дают вещи свое толкование, свое решение, и от них зависит в буквальном смысле судьба произведения, которое театр ставит.
И примеров тому немало. Мейерхольд отдавал целиком всю свою гениальную режиссерскую фантазию, становясь творческим соавтором Маяковского, когда впервые ставил «Мистерию-буфф», «Клопа», «Баню», или Вишневского при постановке «Последнего, решительного», соавтором Файко в «Учителе Бубусе», Эрдмана — в «Мандате», Безыменского — в «Выстреле».
Соавтором Вишневского стал и Таиров, когда создавал спектакль по «Оптимистической трагедии». Достаточно посмотреть режиссерский экземпляр пьесы, чтобы убедиться в этом.
Подлинным соавтором драматурга становится Вахтангов в своих тончайших, изящнейших режиссерских созданиях.
Так что не унывайте, представители «вторичной» формы художественного творчества! Мы не одиноки. Наш «вторичный» эшелон «соавторов авторов» возглавляют такие титаны, как К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, А. Я. Таиров. Не будем обижаться, следуя за «первичным» эшелоном. Но не будем и забывать, что без «вторичной» формы художественного творчества, то есть без режиссуры, «первичная» форма не выйдет на сцену и не будет потрясать зрителей — слушателей. Так что художественная форма наша хоть и «вторичная», но крайне необходимая в жизни современного театра.
Но достаточно примеров. Вернемся к нашей прямой теме. Итак, театр первым поставил новую оперу композитора, предварительно значительно «доработав» ее. Премьера провалилась... В этой ситуации виноват всегда театр, а не композитор. Я в этом твердо уверен. Да, может быть, автор принес произведение, над которым надо еще работать. Но ведь что-то привлекло театр, раз уж он приступил к постановке? Значит, были в нем какие-то неоспоримые достоинства. И то, что касается доработки,— целиком на совести театра. В доработке, как правило, участвуют дирижер и режиссер. Это самый опасный момент в жизни произведения, ибо в музыкальную драматургию, следовательно, в сердцевину композиторского творчества, вторгаются «посторонние», третьи лица. И вот мы подходим к главному во взаимоотношениях театра и композитора (что называется в официальных отчетах, «театр работает с композитором над новой оперой»). Но какой же творческой силой должны обладать режиссер и дирижер, какими профессионалами самого высокого класса должны они быть, чтоб вот так проникать в «солнечное сплетение» композитора-драматурга — в музыкальную драматургию? Ведь разные есть «амплуа» у хирургов — один вырезает аппендиксы, а другой делает тончайшие уникальные операции мозга. Нужны и те, и другие. Есть поточный метод хирургического производства, а есть нейрохирургия, где все построено на строгом индивидуальном отборе и невероятной точности.
Работа над музыкальной драматургией готовой, уже написанной оперы сродни тончайшим операциям нейрохирургии, где существование живого организма — в данном случае произведения — зависит от таких незаметных обычному глазу и уху деталей, что и допускать к этой работе можно только единиц. А у нас бывает так — чуть только вдали, в темном коридоре театрального закулисья, мелькнул силуэт композитора, забредшего сюда с большими надеждами и мечтающего, чтобы его детище, его любимого ребенка не обошли стороной, а обратили внимание, полюбили его,— тут же срабатывает стереотипный театральный рефлекс: раз уж он здесь, хватай его, не выпускай, на стол его немедленно и под нож! Там разберемся, что ему вырезать, времени и так мало. И — ножом по живому. Да еще без наркоза. Так было не раз, бывает и сегодня. И мне хочется подчас крикнуть дирижеру и режиссеру:
— Не спешите! Стойте! Не вмешивайтесь в партитуру! Остановитесь! Не нарушайте главного — самостоятельного авторского взгляда на мир, самого ценного в художнике! Не спешите переделывать! Посмотрите, послушайте еще раз, десять, двадцать... Может, композитор прав, а не вы. Может, он увидел и услышал то, что уже существует в жизни, но вами не уловлено — в интонации, в драматургических построениях, в оркестровке. Может, на сей раз, наконец-то, прав он, а не вы! Одумайтесь, может быть, вами руководит самый обыкновенный театральный стереотип, который мы принимаем за высшую градацию профессионализма (а на самом деле это инерция привычного, груз прошлых работ), и то опасное, чем мы очень гордимся, а в искусстве, по-моему, надо его очень опасаться,— опыт?! Друзья, коллеги, не спешите!
Иначе начинается печальное шествие постановок, однообразных сестер-близнецов. Сюжеты разные, а по авторскому решению все они похожи один на другой, как обитатели сиротских приютов. Ох, не хочется таких опер-сирот! Так мы вообще отвратим талантливых композиторов от оперы. И когда Гоголь говорит о том, что в «Иване Сусанине» «дышит раздольный мотив русской песни», мы не можем не обратить внимания на удивительное поэтическое определение: музыка, по Гоголю, дышит! Вот как он относится к композиторскому творению — оно для него живое существо и дышит. Я убежден, именно так мы должны обращаться с каждым новым произведением — бережно, внимательно, осторожно — никогда не забывая, что оно живое существо, оно дышит!
*
Много различных вопросов затронуто здесь. Но не ищите рецептов. Их нет, ибо нет и не может быть рецептурного отдела в театральном искусстве. Он может быть только в аптеке. Ответы — в нашей общей практике, в дружной совместной работе композиторов и театра. Надо идти дальше, надо искать. Наше дело — как у Маяковского:
Поэзия
вся! —
езда в незнаемое...
Вот так и у нас, каждый раз — в незнаемое. Иначе нельзя, иначе — тупик, остановка, смерть.
Сложнейший это процесс — взаимоотношения между композитором и театром. Процесс этот нескорый, долгий, чреватый всевозможными неожиданностями. Но счастлив тот автор и тот театр, если долгожданная встреча состоится, театр и автор найдут друг друга и пойдут общей дорогой. Эта дорога не будет гладкой, разные трудности встретятся им на пути... Но если они будут вместе — никакие трудности их не остановят, и впереди их будет ждать радость, удесятеренная тем, что она общая.
Психология творчества
Сейчас много внимания уделяется важной теме, именуемой «психологией творчества».
В гуманитарных вузах введен предмет «психология творчества». Но сей предмет находится, увы, настолько в зачаточном состоянии, что представляет собой лишь констатацию известных проблем, мало что разъясняя. Пока что это только проба проникновения в проблему, не больше.
Психология художника так зашифрованна, что наука мало что может объяснить здесь: никакие институты мозга не дадут серьезного ответа о психологии творчества.
Лев Толстой определил искусство как средство обмена чувствами, проведя черту между искусством и наукой, которая, по Толстому, есть средство обмена мыслями.
Философы спорили с великим писателем, доказывая ему, правда, вслед, что он был не прав, отделяя мысль от чувства, противопоставляя одно другому. Но ведь он, как мне кажется, имел в виду другое: это настолько различные сферы человеческой духовной деятельности, что водораздел необходим. По крайней мере, в определении.
Казалось бы, проблема ясна. Одни — на этом берегу реки, другие — на противоположном. Но тут вспоминается определение В. В. Маяковского — «чувствуемая мысль», и четкость научных положений, разграничивающая две сферы человеческой деятельности, снова нарушается. Причем, заметьте, художником. Писатель опять все смыкает в единый круг, добиваясь результата одной короткой фразой, буквально двумя словами. И павловское определение — художник должен быть человеком «эмоционально мыслящим» — снова возвращает нас к сомнению о правомочности разделения людей на два типа. Тем более, что в искусстве уже были химик Бородин, врач Чехов, морской офицер Римский-Корсаков. А в заключение достаточно вспомнить Леонардо да Винчи, блистательно соединившего в своей могучей личности оба типа — и художественный, и тип мыслителя.
Как утверждал Белинский, «в самой сущности искусства и мышления заключается их враждебная противоположность и их тесное единокровное родство друг с другом».
Мы сталкиваемся с проблемами психологии творчества на практике и каждый раз пытаемся интуитивно разрешить эти чрезвычайно сложные проблемы, для решения которых никаких рецептов нет. Каждый раз оказываешься перед глухой стеной, закрывшей тебе дорогу, и как миновать эту стену — перелезать через нее, обойти, перепрыгнуть или, разбежавшись, попытаться пробить ее головой — никто не знает. Ты сам, на свой страх и риск должен принять решение. А тут вспоминаешь, что ты и в собственной «психологии творчества» не разобрался и не в состоянии объяснить многое в своей профессии и в тех импульсах, которые руководят тобой при создании той или иной вещи. Где уж тут проникнуть в чужую «психологию творчества», со своей разобраться бы...
У Чайковского есть чрезвычайно знаменательное признание о собственном творческом процессе: «Обыкновенно вдруг, самым неожиданным образом является зерно будущего произведения (письмо к фон Мекк, 17 февр. 1878 г.)[18].
Общеизвестно, что художник в творчестве выражает себя. И это давно стало аксиомой. Но ведь как провести грань, где он выражает свои чисто субъективные ощущения, не могущие достичь подлинного обобщения, а где достигает глубинных слоев искусства, неся своим творчеством объективные, вечные истины? Только В. Г. Белинский тревожно поставил красный сигнал бедствия, который зажигается у развороченной дороги; если поэт, утверждал критик, «воспевает больше свои собственные страдания, свои ощущения, свои чувства, свою судьбу — самого себя... это совсем не субъективность, хотя в то же время и не объективность. Это скорее опоэтизированный эгоизм»[19]. Может, не следует в этом признаваться, но не раз, прослушивая новое произведение, я ловил себя на мысли, что меня не волнует, не увлекает то, что я слышу, оставляет совершенно равнодушным. И только прочтя у Белинского приведенные выше строки, я понял, что произведение, в основе которого лежит «опоэтизированный эгоизм», не может тронуть других — уж слишком много в нем личностного копания, а значит, оно мелочно, лишено настоящего полета.
В противовес «опоэтизированному эгоизму» знание и умение проникнуть в тайны человеческого сердца всегда отличали подлинного художника. И когда мы в сотый раз слушаем сцену письма Татьяны, мы в сотый раз поражаемся тончайшему проникновению Чайковского в душевные тайны пушкинской героини, гениальному умению воспроизвести это в звучащей музыкальной драматургии.
«Знание человеческого сердца,— утверждал Н. Г. Чернышевский,— способность раскрывать перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами... Истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством»[20].
Утверждение Чернышевского относится не только к писателям, но и ко всем художникам — и прежде всего к композиторам, создателям человеческих характеров средствами музыки, в музыке утверждающих свое «знание человеческого сердца» и «способность раскрывать перед нами его тайны».
В продолжение этой темы обратите внимание еще на одно письмо П. И. Чайковского, несколько приоткрывающее завесу его «психологии творчества». «Правдивость же и искренность не суть результат умствований, а непосредственный продукт внутреннего чувства. Дабы чувство это было живое, теплое, я всегда старался выбирать сюжеты, способные согреть меня. Согреть же меня могут только такие сюжеты, в коих действуют настоящие живые люди, чувствующие так же, как и я»[21].
Приведенное выше письмо, в сущности, продолжает ту же тему — знание человеческого сердца, ибо «настоящие живые люди, чувствующие так же, как я» — это и есть проникновение в тайны человеческого сердца, более того, сознательно выбранный путь к этому проникновению.
Чайковский очень скрупулезно выбирал свою тему, ибо прекрасно понимал, что раскрытие в музыке тайны человеческих сердец возможно только в том случае, если эти сердца близки и понятны ему.
В театральных вузах мы обучаем будущих режиссеров многим вещам, необходимым им для освоения режиссерской профессии. Есть даже предмет — работа режиссера с автором. Но мы забываем, что будущих режиссеров необходимо приучать к проникновению в чужую психологию, к изучению психологии творчества не за те малые лекционные часы, которые положены по учебной сетке в институте. Это необходимо будет им в их режиссерской практике. Вот приходит автор, приносит свое произведение. Важно не только прослушать произведение, не менее важно проникнуть в психологию автора — «художественного типа». Что двигало им, когда он создавал свое произведение? Какие ассоциации — жизненные, социальные, общественные, личные, эстетические — привели его к созданию такого произведения? Что он хотел сказать им, а может быть, что хотел утаить в тончайшем подтексте, читаемом между строк? Все это тоже входит в казенное определение «работа с автором».
Автора, вступившего в «волшебный мир кулис», вкусившего сладкую отраву театра, начинает закручивать театральная центростремительная сила (об этом очень убедительно рассказал М. А. Булгаков в «Театральном романе»). Автор, после целого ряда волнений и сомнений, начинает верить, что его произведение наконец-то получит сценическую жизнь, и постепенно сдается. Теперь уж он выполняет то, что от него требуют дирижер и режиссер, а тут еще солисты толпами ходят за ним, подстерегая его у каждой двери, за каждым поворотом, просят написать им арии, потому что, по их мнению, таковых явно не хватает. (Я не помню случая, чтобы певцы просили у автора написать ансамбли — дуэт, трио, необходимые по логике развития действия,— такого не бывало. А вот арии требуют все.) Вот так и давят на одинокого автора со всех сторон, пока не додавят.
И потом еще одно обстоятельство, о котором я неоднократно напоминаю своим ученикам. При постановке музыкального спектакля выразительные средства театра — и тут ничего не поделаешь — «грубо, зримо» (В. В. Маяковский) входят в музыкальную ткань, врываются в нее, отяжеляя и огрубляя музыку. Печально признаваться, но для меня музыка теряет какую-то тайну, когда она начинает звучать в реальной вещественной сценической среде. Во время спектакля меня всегда что-то отвлекает от музыки. Когда я слышу ее без зрительного ряда, она производит на меня значительно более сильное впечатление. И сколько бы ни изощрялись режиссеры в стремлении найти звучащему в музыке образу сценический эквивалент, соответствующий образу музыкальному, все равно никогда не достичь в театре, используя привычные театральные средства (а других пока что никто не изобрел), той тонкости и свободного полета, который всегда ощущаешь в талантливой музыке. Поэтому мы должны необычайно бережно обращаться с музыкой, ибо нам в нашей профессии никогда не достичь музыкальных вершин — тонкости звукописи, изумительного, какого-то небесного звучания, тончайшего воспроизведения психологических нюансов — того, что есть в настоящей музыке и что никогда вы не сделаете на сцене, потому что уж больно конкретны и вещественны те средства, которыми мы обладаем. Где же выход? Есть ли он? Думаю, что есть, и искать его надо не в вещественности сцены, а в том сочетании, которое для оперы определил Гоголь: «...Соединение тройственного мира искусств: живописи, поэзии и музыки»[22]. Слово «поэзия» в этом контексте, мне кажется, можно понимать расширительно, а не только как стихотворный текст либретто, так же как за словом «живопись», судя по всему, стоит не просто оформление, декорация, но и вся пластическая сторона спектакля — мизансценировка, реквизит, бутафория, то есть внешний рисунок спектакля, его изобразительное решение, которое является выражением главного в опере — музыки. В самом деле, музыкальный театр должен быть театром поэтическим, иными словами — жить в особом поэтическом мире, уходя от обыденности, находя в музыкальных образах высокий поэтический строй, высший полет «жизни человеческого духа». Только когда уйдем мы от вещественности, всего того, что в театре «грубо, зримо», только так мы сможем приблизиться к глубинным поэтическим пластам, заключенным в истинной, прекрасной музыке. В противном случае удивительная воздушная среда, которая всегда есть в музыке, полной свободного раскованного полета, будет воплощена нашими обычными театральными средствами — «грубо, зримо». От этого музыка только теряет, не приобретая ничего, кроме наивной и грубоватой театральной иллюстративности.
Чайковский-режиссер
Реформаторская деятельность К. С. Станиславского в оперном театре привела к новому методу построения музыкального спектакля и воспитания оперного певца-актера. Главная цель К. С. Станиславского была в стремлении к художественной правде, к воссозданию на оперной сцене «жизни человеческого духа». В драматическом театре, при создании системы Станиславского, одним из основных импульсов, как указывал сам режиссер, стало удивительно точное определение А. С. Пушкина — «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах...»[23]. Это легло в основу и реформы оперного театра.
По поводу импульсов, приведших к созданию метода построения оперного спектакля и воспитания певца-актера, сам К. С. Станиславский упоминает Ф. И. Шаляпина, неоднократно приводя его в пример.
Но есть еще один чрезвычайно любопытный факт, относящийся к старшему современнику Станиславского, с которым он часто встречался с 1885 по 1889 год, когда был одним из директоров Русского музыкального общества (РМО). Я имею в виду П. И. Чайковского, которого Станиславский называл «сотоварищем по дирекции». Станиславский относился к великому композитору с огромным пиететом, прекрасно сознавая гениальность композитора. И далеко не случайно он выбрал для своей первой пробы в трудном поиске путей развития оперного театра «Евгения Онегина» — оперу наиболее соответствующую, как он считал, его поискам обновления принципов оперного искусства.
«Евгений Онегин», созданный Станиславским в Оперной студии, стал открытием — открытием на многие годы вперед.
Так вот — не случайно речь об «Евгении Онегине».
Рождение Оперной студии на «Евгении Онегине» напоминает мне рождение оперы Чайковского в оперном классе Московской консерватории. Общеизвестно, что композитор категорически воспротивился первой постановке своего детища на казенной сцене — он был уверен, что оперу там загубят. И обосновал свою позицию довольно подробно, где пророчески высказал те основные положения, которые впоследствии, через 40 с лишним лет, легли в основу оперной реформы К. С. Станиславского.
Письмо, написанное П. И. Чайковским в декабре 1877 года инспектору Московской консерватории К. А. Альбрехту, предвосхищает поиск Станиславского, во многих положениях совпадая с ним.
Оно содержит конкретные режиссерские указания по поводу предстоящей первой постановки «Евгения Онегина», высокие требования чисто режиссерского толка, основанные на четко определенной эстетической позиции. (Режиссерские указания мы найдем и в письме Чайковского к И. А. Всеволожскому о постановке на императорской сцене «Пиковой дамы», и в ряде других писем. Вообще, тема «Чайковский-режиссер» требует специального искусствоведческого анализа. Я же ограничусь локальной темой — комментариями композитора к «Евгению Онегину».)
Чайковский утверждал: «...мне нужна здесь не большая сцена с ее рутиной, условностью, с ее бездарными режиссерами, бессмысленной, хотя и роскошной постановкой, с ее махальными машинами вместо капельмейстера и т. д. и т. п. Для «Онегина» мне нужно вот что: 1. певцы средней руки, но хорошо промуштрованные и твердые; 2. певцы, которые вместе с тем будут просто, но хорошо играть; 3. нужна постановка не роскошная, но соответствующая времени очень строго; костюмы должны быть непременно того времени, в которое происходит действие оперы (20-е годы); 4. хоры должны быть не стадом овец, как на императорской сцене, а людьми, принимающими участие в действии оперы; 5. капельмейстер должен быть не машиной... а настоящим вождем оркестра...»[24].
Удивительное письмо! По четкости формулировок и краткости (всего 5 пунктов!) ясно, что Чайковский излагает продуманный до деталей план: он точен, доказателен — видно, что тема эта для него давно и неоднократно обдумана, и позицию он занимает определенную и ясную. И главное — он предсказал основные направления оперного реализма, которые впоследствии разовьет Станиславский!
К. С. Станиславский вряд ли знал об этом письме, когда оно было написано, но он мог ознакомиться с ним после смерти П. И. Чайковского, когда стали выходить в печати материалы, связанные с жизнью и деятельностью великого композитора. А может, в годы директорства Станиславского в РМО, общаясь с Чайковским, он обсуждал проблемы оперного театра, которые его тогда уже интересовали — и как певца (он мечтал быть оперным певцом), и как режиссера.
Сам факт обсуждения Чайковским и Станиславским проблемы обновления оперного спектакля, основанного на стремлении к художественной правде, не исключен, хотя нигде не зафиксирован, в том числе и у Станиславского в «Моей жизни в искусстве». Но тем не менее...
Симптоматично, что через несколько лет после участия в дирекции РМО К. С. Станиславский обратился к оперной режиссуре и поставил учебные работы с учениками профессора Московской консерватории М. Н. Климентовой. Это был первый опыт, первая проба Станиславского в оперной режиссуре, за год до открытия МХТ.
Напомним, что М. Н. Климентова — первая исполнительница роли Татьяны в «Евгении Онегине» и что именно в ее консерваторском классе состоялся дебют Станиславского в качестве оперного режиссера. Мы не знаем, какие проблемы обсуждали Климентова со Станиславским, но можем предположить, что первая Татьяна, неоднократно общавшаяся с Чайковским в период подготовки оперы в консерватории (а известно, что спектакль ставился под пристальным вниманием композитора), делилась со Станиславским драгоценным опытом, приобретенным во время первой постановки «Евгения Онегина». И именно с «Евгения Онегина» начнет Станиславский проводить свою реформу оперного искусства!
Есть совпадение в определении композитором и режиссером музыкального действия — главной движущей силы оперного спектакля. В письмах П. И. Чайковского (опять же по поводу «Евгения Онегина») неоднократно встречается слово «действие». В одном из писем идет речь о Татьяне и Ольге: «...Действия их очень просты, нетеатральны, обыденны,— но все-таки каждая из них действует...» (разрядка моя. — И. Ш.)[25].
И в целом ряде писем Чайковский говорит о действии как основе основ оперного театра, причем применяет это определение не как действие внешнее, а, говоря словами Станиславского, как «жизнь человеческого духа».
Еще из одного письма о «Евгении Онегине»: «...Я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки»[26].
Чайковский разделяет два понятия, даже противопоставляет их — действие (имеется в виду внутреннее) и движение, то есть внешний рисунок.
В одной из первых статей (1919) о своем новом методе Станиславский скажет: «...Каждое сценическое представление есть действие... услышать... заключающееся в музыке действие...»[27].
Эти совпадения неслучайны, в них — глубокое родство двух великих художников в стремлении к обновлению музыкального театра и общее понимание задач, в главном, конечно.
В своем отношении к действенной стороне оперы Чайковский выступает не только как музыкальный драматург, но и как режиссер, превосходно видевший действие. Но если внимательно вчитаться в высказывания композитора, то нетрудно убедиться: размышления его о художественной правде в оперном искусстве далеко не однозначны, как это может показаться по первому впечатлению. Он проводит четкую «демаркационную линию» между правдой реальной жизни (очевидно, имеется в виду все-таки натурализм) и правдой художественной. Здесь он категоричен несвойственной ему категоричностью (значит, проблема эта не просто интересна для него — нет, он горячо, убежденно отстаивает свою позицию, и, очевидно, не впервые — тон его высказываний взволнован, в нем ощущается какая-то взрывная энергия глубокой убежденности).
«...Я нисколько бы не затруднился нагло отступить от реальной истины в пользу истины художественной. Эти две истины совершенно различны, и слишком гнаться за первой из них, забывая вторую, я не хочу и не могу, ибо если погоню за реализмом в опере довести до последней крайности,— то неминуемо придешь к полному отрицанию самой оперы. Люди, которые вместо того, чтобы говорить,— поют,— ведь это верх лжи в низменном смысле слова»[28].
Это высказывание Чайковского сродни его резко критическому пассажу в адрес Вагнера, где позиция тоже достаточно определенна: «...Претензия добиваться реальной правды в такой условной, но прекрасной лжи, как опера,— есть беспардонное Дон-кихотство...»[29].
Речь идет о достижении в опере высокой художественной, а не мелко бытовой правды, высокого полета духа, правды крупных характеров, а не правды сервировки стола или натуралистически подробной обстановки дома. Таково требование великого мастера. Не будем забывать об этом.
В одной из многочисленных рецензий Чайковского (речь идет о «Вольном стрелке» Вебера) есть тончайшее наблюдение композитора, словно разъясняющее его разделение правды реальной жизни и правды художественной: «Музыка почти достигает реальности искусств пластических»[30]. Видите — не реальности бытовой обыденности — а реальности живописи, графики, скульптуры — то есть эта реальность не выходит за рамки художественной, она для Чайковского остается в пределах искусства!
О «Пиковой даме»
К «Пиковой даме» у меня отношение особое. Это не просто самая любимая опера. Она — самая близкая. Потому что Пушкин и Чайковский. И еще потому, что многое, что было связано в моей работе с «Пиковой», происходило в жизни впервые. В «Пиковой» я первый раз вышел на сцену. Случилось это давным-давно, в 1941 военном году, в Бакинском оперном театре. Было мне 11 лет и изображал я мальчика-командира в Летнем саду. «Пиковая дама» — первый в жизни спектакль, поставленный мной в Татарском государственном театре оперы и балета. С репетиций «Пиковой дамы» началась моя деятельность в Большом театре, где я занимался вводами в идущий спектакль, поставленный моим учителем Л. В. Баратовым. Наконец, «Пиковая дама» стала первым моим спектаклем, осуществленным за рубежом. Но не покидает меня ощущение, что главная моя «Пиковая» — впереди. Я еще не погрузился в глубины ее, я еще в пути, сделаны только первые пробы. Она, как радуга над полем, кажется совсем рядом, а не постигнешь.
Я счастлив, что через всю жизнь прошло изумительное это творение, ибо нашел в нем ответы на многие вопросы, в самые разные годы волновавшие меня. И каждый раз, возвращаясь к «Пиковой даме», я открывал для себя все новые и новые горизонты, не раскрытые мной ранее. Оно бесконечно, это гениальное произведение, и пространство его необозримо, оно простирается в такие дали, охватить которые до конца нет возможности. Есть только ощущение постепенного приближения к глубинной сущности, к сердцевине произведения, но каждый раз, прикоснувшись к «Пиковой», ты с изумлением замечаешь, как далеко тебе еще идти по этому бесконечному пространству. Это произведение можно изучать всю жизнь и так и не исчерпать его до конца.
И я иду, иду по дороге познания. Как далек путь к постижению этих несравненных глубин. Какое это чудо и какая ни с чем не сравнимая радость — погружаться в глубины гениального создания, которое — навсегда...
А начинался этот путь еще в студенческие годы. Много лет, а точнее 35 лет назад, я готовился к первому в своей жизни спектаклю — дипломному. Им должна была стать «Пиковая дама». 10 дней я жил в Клину, изучал личные документы Петра Ильича Чайковского. Тогда директором Дома-музея был близкий знакомый нашей семьи, и он допустил меня к подлинникам Чайковского. Происходило это в зимние вечера, когда музей закрывался для посетителей, в полутемном доме Чайковского была тишина, и казалось, что время повернуло вспять, и вновь — конец XIX века, и хозяин дома где-то здесь, то ли отдыхает в одной из комнат, то ли совершает вечернюю прогулку по саду. Настроение было удивительное. Оно усиливалось еще и тем, что вечерами по аллеям сада прогуливался Ю. Л. Давыдов, племянник Петра Ильича, внешне очень напоминающий его.
Но самое удивительное — подлинная рукопись клавира «Пиковой дамы», которую я изучал внимательнейшим образом несколько вечеров. Написанные стремительным почерком листы, помарки, где-то недоговоренность, многоточия в музыке, перечеркнутые страницы... В клавире навеки запечатлено состояние, в котором находился композитор, создавая свой шедевр: клавир написан за 44 дня (!!!). Эта стремительность, желание запечатлеть музыкальные образы, мгновенно возникающие в его воображении, очень точно читаются в подлиннике клавира. Я счастлив, что держал в руках рукопись Чайковского. Мне казалось, кажется и сегодня, что нечто новое открылось тогда для меня в «Пиковой даме», которую я знал с детства. Да и не только в «Пиковой». Может, тогда я впервые задумался о творческом процессе, о том скрытом механизме творчества, который руководит подсознанием художника.
А теперь об авторских ремарках в клавире «Пиковой дамы». Дело в том, что большинство из них... П. И. Чайковскому не принадлежит. И это известно абсолютно точно. В авторском клавире всего несколько ремарок, среди них — бой часов на крепостной башне, хор «Радостно, весело» поет хор певчих (что подтверждает Чайковский в письме И. А. Всеволожскому) — и еще 3 или 4 ремарки.
Вот и все. Откуда же взялись остальные (и довольно многочисленные) ремарки в клавире? Этому долго я не мог найти ответа, пока мне не посчастливилось набрести в Доме-музее на первый напечатанный в 1890 году клавир (очевидно, малым тиражом — для репетиций в Мариинке). Клавир принадлежал первому постановщику оперы — О. О. Палечеку, «учителю сцены» Мариинской оперы, как тогда называли режиссеров. Так вот — все ремарки в клавире (за исключением приведенных выше) принадлежат Палечеку и написаны его рукой. А при напечатании клавира уже большим тиражом эти ремарки были внесены в текст клавира без упоминания о Палечеке. Вот так и возникла легенда о том, что многочисленные ремарки в «Пиковой даме» принадлежат Чайковскому. Но они далеко не отражают замысла автора. Скорее, они отражают состояние и уровень сценической культуры оперного театра 90-х годов прошлого столетия — не больше; и уровень режиссерского мастерства Палечека (а он никогда в выдающихся режиссерах не числился). Достаточно посмотреть на фотографии первого спектакля «Пиковой дамы» (они сохранились) и почитать описания спектакля очевидцами (они тоже сохранились и изданы). Вам все станет ясно. Так что слепо следовать «авторским» ремаркам «Пиковой» надо тоже с поправками. Кстати, печальный парадокс заключается в том, что как раз ремарки самого Чайковского обычно игнорируются: к примеру гости, а не певчие, как требовал автор, поют гостям приветственную кантату, то есть сами себе. Вот уж в самом деле — рассудку вопреки! А ведь у автора все оправданно и рассчитано очень точно.
То, что Чайковский был не только великим музыкантом, но и великим драматургом, общеизвестно. Но мне хотелось добавить: и музыкальным режиссером. Только режиссура его не в ремарках (которые писал не он, как мы убедились), а в музыке. Да, именно в музыке «Пиковой дамы», если внимательно изучить не только ее эмоциональную сторону, а структурное построение, ее «несущую конструкцию», можно найти массу режиссерских решений — они не только подсказаны музыкой, они в ней заложены. Надо только очень внимательно вслушаться и перевести «звучащую драматургию» в драматургию пластическую.
Но об этом точно сказано у Станиславского, неоднократно перепето другими. Заново перепевать ту же тему я не хочу.
О «Евгении Онегине»
Музыку «Онегина» я знаю наизусть с бакинского детства. Отец водил нас с братом на спектакли в оперный театр, и, насколько мне помнится, первым был «Онегин».
Много раз я собирался ставить «Онегина», а вот не состоялось по сей день в силу различных причин. Множество видел я постановок «Онегина» у нас и за рубежом (даже балет на музыку оперы Чайковского) и ни разу не увидел того, о чем мечтаю. Все привычно, спокойно, добротно и с известной долей благополучия. Исключение — спектакль К. С. Станиславского в Московском музыкальном театре, идущий уже 60 с лишним лет. Не осталось ни одного исполнителя, работавшего под руководством Константина Сергеевича. Сейчас поет в спектакле пятое (если не шестое) поколение артистов. Конечно, время многое стерло. Как ни печально, это остатки от замысла Станиславского, но и в них больше смысла, чем в иных «современных» ординарных постановках этой оперы.
В сцене ларинского бала (которую пытаются лихорадочно каждый год перед началом сезона спасти от полного разрушения) — даже в ее «остаточном» состоянии — виден смысл, блистательное режиссерское решение, видна железная режиссерская рука, выстроившая все — от начала до конца. Он и сегодня очень смешной, ларинский бал. И в этом превосходная общая конструкция спектакля: великому режиссеру перед сценой дуэли и гибелью Ленского необходим был резкий контраст — веселая бытовая сцена. И здесь он не отошел от авторского замысла. Перечитайте описание помещичьих семей, прибывших на именины Татьяны — это очень иронично написано, юмористически, с прелестными смешными деталями. Послушайте внимательно музыку ларинского бала, и вы убедитесь, что Чайковский здесь шел вослед Пушкину — композитор для характеристики гостей и общей атмосферы провинциального помещичьего бала создал много наивной, веселой музыки, какой-то «музыки чудаков». Следовательно, Станиславский шел точно по замыслу Пушкина и Чайковского, выстраивая драматургическую логику своего спектакля.
...Мне хочется сделать спектакль очень камерный, строгий по мизансценировке, сосредоточив все на исполнителях, в неторопливых репетициях нажить с ними верное самочувствие, чтобы слушателям-зрителям стал понятен смысл этого великого произведения. Белинский сказал об «Онегине» «...жизнь без смысла, а роман без конца». Если когда-нибудь удастся поставить оперу, поставлю об этом. Боюсь, будет очень печальный спектакль. Но он будет про всех про нас...
О «Майской ночи»
Найти органику соединения: фантастики и реального, лирики и комедийности, музыки Римского-Корсакова и поэзии Гоголя, мудрости народной и наивной (прямо детской) веры в чудеса.
Воссоздать на сцене истоки — своеобразную поэтику рождения народной песни. Чтобы со сцены лилась радость жизни, любви, молодости — то, что поражает, когда читаешь «Вечера на хуторе близ Диканьки» и слушаешь музыку оперы. Добиться бы всего этого, хоть на шаг приблизиться к мудрости и глубине классического произведения и не «осовременивать» классику (упаси меня бог от этого наивного, но такого модного ныне развлечения!), а попытаться понять, расшифровать ту позицию, из которой исходил Гоголь и вслед ему — Римский-Корсаков. Удастся ли, получится ли? Ведь это мой первый спектакль в Московском музыкальном, и от того, каким он будет, зависит все. Я уже твердо решил: если «Майская» не станет победой, я сам уйду из театра, как бы нелепо это ни выглядело — пришел и ушел. Материал для режиссера очень неподатливый — ведь не случайно опера репертуарной никогда не считалась, и в Москве не шла около 40 лет!..
Решил делать спектакль в двух актах вместо трех. На одном из прогонов проверил — сделал один антракт, после первого акта, а потом хата, и сцена у амбара и финал (русалки) идут подряд без перерыва. Получилось компактнее: на едином дыхании идет вторая половина оперы. А в паузах во время перестановок — поклоны, проходы по авансцене персонажей спектакля: они идут, сохраняя свои взаимоотношения, уже сыгранные в спектакле,— поэтому все узнаваемо, забавно и смешно и не противоречит стилю спектакля, а как-то органично вписывается в него.

Сцена из спектакля «Майская ночь».
Винокур - В. Войнаровский, Голова - Л. Зимненко, друг Винокура - М. Сыромятников
Камень преткновения для режиссеров — последний акт. Он наиболее поэтично написан, в нем — кульминация поэтического взлета. Здесь причудливо переплетена фантазия с реальностью, и весь философский и нравственный смысл оперы заключен в этом акте. Единение человека с природой, поэтическое ощущение этой неразрывной связи, когда трудно уловить, где реальное действие, а где фантастическое, настолько все происходит органично, вытекает одно из другого. Тогда Левко просто и естественно вступает в общение с фантастическими образами — Панночкой и утопленницами, даже, точнее, сам вызывает их песней, и они неудержимо стремятся друг к другу — реальный парубок и фантастические русалки. Высокий поэтический полет, запечатленный в музыке, позволяет незаметно перешагнуть грань инфернального, и тогда, овладев поэтическим миром, воспарив к высотам народной фантазии, можно «на равных» обращаться человеку с потусторонними силами — все становится доступным и оправданным, согретым подлинной поэзией.
Конечно, это музыка так написана, что все события сливаются в единый эмоциональный поток, ведя за собой нашу фантазию, возрождая в каждом из нас поэтическое начало, заложенное еще с детства и не всегда доживающее до зрелого возраста, задавленное множеством жизненных реалий...
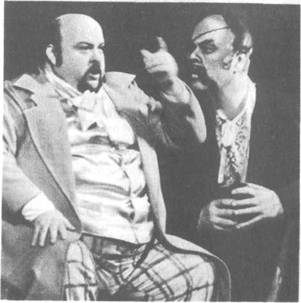
Сцена из спектакля «Майская ночь». Винокур — В. Войнаровский, Голова — Л. Зимненко
Да, третий акт — чудо из чудес русской оперной классики. Однако он таит в себе неожиданное качество. Много раз я ловил себя на странном ощущении: когда слушаешь печально-светлую музыку русалок, их тоскливо-тягучий зов, в котором и воспоминание о прежнем, и оплакивание несбывшегося, поражаешься той человечности, с которой композитор написал удивительную эту картину. Секрет ее — в нравственной основе, заложенной в музыке Римского-Корсакова и гоголевской повести. Истоки III акта в своеобразной прелюдии — рассказе Левко из I акта, который традиционно считается в театре скучным и вроде бы вообще не очень нужным. Но рассказ Левко — драматургический узел всей оперы. Это стало мне ясно, когда я внимательно прочел партитуру Римского-Корсакова. В рассказе есть даже оттенок трагизма (в комической-то опере!), пробивающийся сквозь страх, вызванный историей Панночки и Мачехи. Рассказ Левко о великой несправедливости, совершенной с юной Панночкой, о подлом преступлении, оставшемся безнаказанным. И поэтому сквозным действием III акта для меня стало восстановление справедливости. Это стало и главным нравственным стержнем всего спектакля. Панночка мучается присутствием неотмщенной мачехи и обращается к Левко с мольбой о помощи. И Левко, знающий трагическую историю гибели Панночки, исполняет ее просьбу — он находит мачеху, скрывающуюся среди русалок, и русалки наказывают преступницу. Зло разоблачено. И далее, добро рождает добро. Теперь Панночка в ответ помогает парубку — и спасительное письмо Голове с требованием женить Левко на Ганне у него в руках. Так восстанавливается справедливость, так добро становится поэтической силой, объединяющей и реальность, и фантастику. В этом — народная основа «Майской ночи», ее фольклорные истоки. Там, в фольклорных глубинах, не раз объединялись силы природы, чтобы наказать зло, чтобы добро торжествовало, неся людям радость и счастье. Так, фольклорно, построена «Майская ночь» — и у Гоголя, и Римского-Корсакова. Так и воспринимается третий акт, когда слушаешь его. Но когда смотришь...
Вот тут и начинается. Я не видел ни одной постановки «Майской», где бы удался «русалочий акт». «Обычно эта сцена скучна, потому что на сцене не бывает ни молодости, ни фантастики, ни любовности, ни обаяния, и хор русалок звучит мягкотело...» — утверждал К. С. Станиславский, ставя последний акт «Майской ночи»[31].
В чем же дело? Я вспоминаю: под необычайное, какое-то воздушно-прозрачное музыкальное звучание на сцене появлялся женский хор в прозрачных одеждах; и твердо, уверенно ступая по планшету сцены, упитанные тети вставали «на места». Не сводя настороженных глаз с дирижера, жирными голосами начинали они старательно выпевать свои фразы, в такт помахивая руками, добросовестно изображая не то водоросли, не то плывущих русалок... Все кончалось. Какая уж тут поэзия, фантастика! Ничего подобного не оставалось — хоть на сцену не смотри. Ложь, вранье, безвкусица!
Я долго бился над «русалочьим актом», пока наконец не пришло решение — простое и ясное. Тогда я убрал хор со сцены, и русалочками стали... артистки балета. Боже, как же легко «зазвучал» весь акт!
Голоса хора, доносящиеся теперь откуда-то издалека, приобрели нереальное звучание, и русалочки, выходящие из озера, изящно плывущие по сцене бесконечной плавной линией, придавали всей сцене некую фантастическую окраску, нечто струящееся, почти неуловимое, неосязаемое...
Это решение спасло (я в этом не сомневаюсь) спектакль, дало ему ту поэтическую силу, которой так не хватало ранее, что подтверждают и отзывы о «Майской ночи» в прессе: «Пожалуй, главное, что привлекает в новом спектакле,— это целостность, единство всех его компонентов. А как раз в этом плане «Майская ночь» традиционно считается сложной для интерпретации. Ведь перед постановщиком возникает нелегкая задача — слить воедино различные, порой контрастные эпизоды — контрастные и по своему характеру, и по музыкальному языку. Проникновенные лирические сцены соседствуют здесь с сатирическими жанровыми картинами, фантастика — с бытовой достоверностью. Заслуга режиссера заключается именно в том, что он сумел найти гармоничное равновесие всех этих элементов, открыв тем самым и актерам богатейшие возможности для выделения их творческой индивидуальности»[32].
«В умелых руках режиссера-музыканта многочисленные компоненты театрального искусства приведены в единую стройную систему, подчиненную ясному и точному замыслу. Солисты, артисты хора, балета, оркестра, сценическое оформление и свет — все это работает на главное — образное раскрытие партитуры великого композитора»[33].
Опера сегодня
В наш век — век кино и телевидения — стало признаком хорошего тона ругать оперу вообще как жанр, делать прогнозы — один другого мрачнее, предрекая ей скорую и неизбежную смерть. Аналогичный процесс мы наблюдаем в литературе, где тоже нередко раздаются голоса, предрекающие гибель в XX веке романа. Очевидно, здесь сказалось наступление вообще на крупные формы, какой-то определенный психологический настрой, обусловленный новым ощущением современного ритма, стремлением к малым формам — новеллам, рассказу, эссе, песне, романсу.
Не знаю, как литература, а опера не раз давала повод к мрачным прогнозам. В этом есть своя закономерность, ибо и сегодня любой из нас может наблюдать оперные спектакли, где нелепости громоздятся одна на другую — тяжелые, неповоротливые, наглые от сытости и самодовольства.
А нагромождение нелепостей в оперном театре XVIII — XIX веков? Их мы даже не можем представить — только по описаниям да старым дагерротипным портретам, запечатлевшим нелепейшие позы знаменитых певцов с обязательным приложением пухлой ручки к сердцу и устремленным куда-то вдаль туманным взглядом. Это то, что дошло до нас со второй половины XIX века, а что же делалось в оперном театре за 100 лет до этого? Естественно, что крупные деятели культуры разных стран нападали на оперное искусство, видя в нем апологетику мещанского благополучия и обывательской пошлости. Правда, находились у оперы и защитники. Ради справедливости стоит заметить, что ни те, ни другие к опере никакого отношения не имели. Это — высказывания зрителей, пусть высокообразованных, квалифицированных, в известных случаях даже гениальных, но — зрителей.
Итак, крупные авторитеты стали дружно хоронить оперу чуть ли не со дня ее рождения. Хоронили и в последующие эпохи. Вольтер напал так, как мог напасть только он — по-орлиному, с небес камнем вниз на жертву, и — насмерть. Он утверждал, что в оперу люди идут, чтобы убить время и спокойно переваривать пищу.
Значит, теперь уж в орбиту негативного вовлекаются не только авторы и исполнители, но — что обиднее — и зрители?
Значит, если ты пошел в концерт, это свидетельствует о твоей высокой музыкальной культуре, а если — в оперу, то как раз наоборот? (Хорошо, что эти изречения неизвестны «широкой зрительской массе», а то бы обид было! Да и посещаемость упала бы, а она и так не очень-то высокая!)
Примирительную позицию занимал Дидро, утверждавший, что плохая опера — наихудший вид искусства, хорошая — наилучший. Ну, это, пожалуй, относится ко всем искусствам: хорошее и в драме, и в живописи, и в кино — хорошо, плохое — плохо. Неожиданно в дискуссию об опере вступает... Гоголь. И он становится (ликуйте, защитники оперы!) в наши ряды. Восторгаясь картиной Брюллова «Последний день Помпеи», Гоголь пишет, что творение художника «по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного можно сравнить разве с оперою...»[34].
Но в борьбе мнений вокруг оперы точку поставил один из самых авторитетных и яростных ее противников, назвав «самым отвратительным зрелищем». Эта убийственная и жестокая оценка ставит под сомнение само существование оперного искусства, она фактически зачеркивает оперу — резко и беспощадно. К сожалению, это сказал Лев Толстой. Он дал уничтожающее описание оперного спектакля в романе «Война и мир». Но, правда, здесь необходимо оговорить причины резко отрицательного мнения Л. Н. Толстого. Он иронически пишет о спектакле, который, очевидно, видел сам. Скорей всего, это и был тот самый спектакль, где нагромождение нелепостей превышало всякие нормы, и будь каждый из нас на месте писателя, он восстал бы с такой же страстностью. Так что давайте условимся — речь идет не о жанре в целом, а о конкретном плохом оперном спектакле, возмутившем его. Спорить здесь трудно, да и не надо — замечание Толстого верное.
Но как бы то ни было, хоронили оперу, хоронили, а она взяла да выжила. Живет и сегодня. И сегодня стремится зритель в хорошие оперные театры на хорошие оперные спектакли и в нашей стране, и за рубежом. Мне приходилось бывать на спектаклях в оперных театрах в ФРГ, Франции, Испании, Финляндии, Югославии, Венгрии, Болгарии, ГДР, Чехословакии, Польше — многих европейских странах. Залы оперных театров всегда переполнены. А в Баварскую государственную оперу в Мюнхене билеты заказывают за 6 —7 месяцев из разных стран (я это знаю по моему спектаклю «Пиковая дама» — билеты на премьерные спектакли оперы Чайковского были проданы за полгода до премьеры).
Очевидно, мы сегодня должны говорить не о жизни и смерти оперы вообще, а об опере хорошей и плохой. Хорошая — нужна, она жизнеспособна и жизнедеятельна, ну, а плохая... надеюсь, плохая отомрет сама собой, и никто об этом не пожалеет, хотя процесс отмирания быстрым не будет.
Скажите, почему никого не тревожит ставшее обычным то, что должно рассматриваться как ЧП и вызывать если не панику, то серьезную тревогу?
Сегодня стало намного сложнее со зрителем в театре, с его реакцией на тот или иной спектакль. То, что еще лет 10—15 назад «проходило» на зрителе, сегодня обречено на полнейшее зрительское равнодушие. Театр перестал быть тем праздником, каким был для моего поколения. Причин тут много, и я не хочу поднимать сложные общественные и эстетические проблемы, это должен быть специальный, отдельный разговор. Он будет о том, что зритель меняется, ибо меняется время, что зритель наш растет быстро, как царевич Гвидон, а театры поотстали и так далее. И, наверное, это будет справедливо.
Но, я думаю, одна из причин такого состояния сегодняшних взаимоотношений между зрителем и театром — некая «фоновая» функция искусства, до которой оно низведено. И виновны в этом (невольно, конечно) радио и в особенности телевидение. Им принадлежит главная «заслуга» в том, что искусство стало в известной мере «фоном» нашего быта (повторяю — ни радио, ни телевидение к этому, понятно, не стремились, но их «всепроникаемость» буквально в каждую квартиру стало оборачиваться и своей теневой стороной). Зрители старшего поколения, вспомните: мы шли в театр, и это был праздник для нас. А сегодня праздник стал «с доставкой на дом», и вечером, удобно устроившись у телевизора и попивая чаек, вы можете смотреть и слушать «Евгения Онегина» или же «Пиковую даму», свободно в любой момент переключая великое творение Чайковского на фигурное катание или же «Клуб путешественников». Мы отучились сосредоточиваться, потеряли внимание, стали разбросанные, нам трудно дается сопереживание, а без этого восприятие искусства — тем более театрального — просто невозможно. Рецидивы этого «телевизионного восприятия» сказываются и в зрительном зале театров, особенно — в оперном.
Мне рассказывал один директор театра:
— Приезжаю в крупный сибирский город. Вечером в оперном театре — красивом барочном здании, где в фойе и зрительном зале все празднично, удобно, зовуще,— идет «Русалка». Исполнителей, включая оркестр, около 300. А в зале (я считал специально) — 82 человека! Почти вчетверо меньше, чем занято в спектакле — и среди них почти все пожилые люди. А совсем недалеко, в огромном неуютном Дворце спорта — холодном, с неудобными местами для зрителей — 10 тысяч! И все молодежь, молодежь — идет концерт популярной эстрадной певицы; уже пятый подряд, а попасть невозможно.
Что это, случайность? Но она стала последние годы закономерностью.
Я знаю, что я сейчас услышу: невысокий вкус зрителя, невзыскательность, ширпотреб. Я слышу эти самооправдания многие годы. Друзья, коллеги, не будем успокаивать себя. «Зритель голосует» — от этого мы никуда не денемся. Не успокаивайте себя тем, что, дескать, вся советская молодежь такая невзыскательная, что вот на Пугачеву валом валит, а на «Русалке» — пустой зал. Почему-то ведь это происходит. Самоутешение нам не поможет. Давайте поищем причины в самих себе, внутри нашего дела — может, есть и наша общая вина, что мы потеряли миллионы зрителей и для нас стали нормой сборы в 82 человека? И, наконец, необходимо решать, как же привлечь молодых в оперный театр.
Это — проблема проблем. Молодых в театр не затянешь на аркане, если им не интересно. И отбоя от них не будет, если удастся заинтересовать их. Эстрада — на хозрасчете, оперные театры — в привилегированном положении, они на дотации, а это очень дорогое дело для государства. Эстрада вынуждена вести постоянную борьбу за выживание, иначе она не прокормит себя. Может, в этом тоже один из секретов ее массового успеха — обостренность борьбы, где выживают и выдерживают конкуренцию только сильнейшие, где все определяет естественный отбор?
В оперных театрах эта борьба значительно ослаблена, ибо театры содержит государство, и известная доля благополучия сопровождает их жизнь.
Правда, мы говорим — убытки материальные есть, зато — большую культуру в массы несем. Опомнитесь, какие массы? Массы — рядом, во Дворце спорта, а здесь — несколько десятков пенсионеров...
Для режиссера всегда не безразлично, кому адресуется его спектакль. Так хотелось бы, чтобы зритель помолодел!.. И это серьезная, острая проблема. Конечно, она отчасти объясняется и занятостью людей, и напряженным ритмом нынешней жизни. Но только ли этим?.. Было бы горько думать о будущем музыкального театра как о театре лишь для профессионалов и, увы, немногочисленных любителей музыки.
В чем секрет успеха у зрителей? Почему мы не изучаем его? Проще отмахнуться от проблемы, обвинив всю нашу молодежь, тянущуюся к эстрадным звездам, в полном отсутствии вкуса, в невзыскательности, во многих других грехах. Но за этой позицией ощущается наша полная беспомощность, нежелание понять причины и принять конструктивные решения. А ведь есть же своя тайна у эстрады и кино, собирающих миллионы зрителей, в том числе ту самую молодежь, которую, как мы считаем, утешая себя, так заела пошлость, что дальше ехать некуда.
Мне кажется, надо учиться у эстрады самой механике успеха, тайне успеха. Ведь еще А. В. Луначарский призывал изучать секреты успеха — уметь «психологически выделить то благородное, что на самом деле служит здесь магнитом, привлекающим народную душу...»[35].
Эстрада и кино знают эти магниты, а оперный театр — нет, за редким исключением. Иначе чем объяснить, что в одном и том же городе, в один и тот же вечер мог произойти случай, о котором я вспомнил? И где, в каком зале в этот вечер оказался тот магнит, что привлек народную душу. Так почему мы по привычке пренебрежительно отзываемся об эстраде и встаем на цыпочки, когда разговор начинается об оперном театре?
Может, я сгустил краски. Может, все не так уж и плохо. Государство у нас богатое, переживем и пустые залы в крупных оперных театрах. Но, может, глядя на сплошные проплешины пустых кресел в залах оперных театров, и рождается мысль о предстоящих скорых похоронах оперы? Может, в подобной постановке проблемы звучит тревога за оперу, а не желание убить ее, и здесь больше сочувствия, чем злобствования?
Опере нужны молодые, современные певцы, верно ощущающие сегодняшний зал, нужны дирижеры, остро чувствующие современное восприятие музыки — в том числе и классики — ведь классика должна сегодня звучать по-иному, чем звучала в XIX веке!
Произведения классического искусства, заново ставящиеся сегодня, в наше время, должны быть возрождены в истинном, подлинном их существе и содержании. Всяческие опыты по поводу «осовременивания» классики наивны и никогда к хорошим результатам в искусстве не приводили. Но вместе с тем можно усомниться в том, что современный человек, погруженный в бури и грозы XX века, будет сгорать от нетерпения погрузиться в произведения, созданные в иные давние века, если он не найдет в этих давних произведениях нечто, что понятно и близко ему сегодня, что взволнует его, не оставит равнодушным. События минувших времен надо делать понятными, близкими, интересными для сегодняшнего зрителя. А образы героев — волнующими современника. Тогда классика будет не просто ценным музейным экспонатом, а будет активно работать как живое, очень нужное и очень сегодняшнее искусство. Поэтому, прикасаясь к классике, я всегда пытался в какой-то мере осмыслить те движущие импульсы, из которых исходил ее творец, постичь глубинную сущность произведений.
Именно к этому мы стремились в постановке оперы Дж. Верди «Битва при Леньяно», действие которой происходит в XII веке. Эпоха с ее колоритом очень важна для спектакля, но было бы ошибкой ставить именно ее во главу угла. На репетициях мы долго искали решение, думали, спорили. А решение пришло как бы само собой: надо углубить, заострить внимание на связи жизни и общественного долга, общественного долга и личных интересов героев. Хотелось показать самую жизнь народа, а не только ее «фон»... И спектакль сразу ожил.
Мне кажется, современный режиссер музыкального театра не имеет права замыкаться в каком-либо определенном жанре — скажем, всю жизнь ставить только оперные спектакли. Музыкальный театр нашей современности в своих проявлениях стал значительно сложнее, богаче и разнообразнее. Часто в опере переплетаются черты массового действа, драматического спектакля и даже кинозрелища. Чтобы выстроить такой сложный, многоплановый спектакль, необходимо уметь хорошо ориентироваться в разных зрелищных жанрах. Я всю жизнь стремился именно к этому: ставил в опере, на телевидении и в кино, работал над радиопостановками и эстрадными представлениями. В моем «багаже» есть даже один цирковой спектакль «Москва встречает друзей», поставленный по сценарию С. Михалкова в 1972 году в цирке на Ленинских горах...

На премьере спектакля «Битва при Леньяно».
В первом ряду: В. Кожухарь, Л. Казарновская, И. Шароев, В. Осипов.
Во втором — А. Бойцов, Л. Болдин, Н. Дёминов, Л. Екимов.
Многотемность, разнообразие возникающих задач не дают замыкаться в рамках одного лишь жанра, заставляют искать новые, острые решения. Так было, например, с оперой Газизы Жубановой «Москва за нами», посвященной подвигу героев-панфиловцев. Работа была трудная, но интересная. Пожалуй, можно сказать, что тогда возник новый жанр: публицистическая оратория.
Как-то отвечая на вопрос корреспондента журнала «Огонек» о том, как рождались мои спектакли на сцене театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в котором я начал работать весной 1982 года, я рассказывал, что серьезно волновался поначалу. Можно ли безболезненно войти в жизнь сложившегося коллектива с его давними традициями?! Я против «метлы», которая «по-новому метет»! Но ведь каждый новый режиссер непременно привносит в театр свое: стиль работы, задумки, фантазии... Это всегда сложное время для режиссера. Опера Римского-Корсакова «Майская ночь»... Все было непросто! Но какое счастье испытываешь, когда из первозданного хаоса начинает формироваться спектакль, появляется единое дыхание, ритм работы, то, что называют творческим контактом. Взаимопонимание пришло практически сразу: удачными, а значит, радостными были репетиции... А потом, когда уже спектакль «выводишь на зрителя», он, увы, постепенно и как-то незаметно отходит от тебя... Если актер творит в спектакле каждый вечер, «звездные часы» режиссера, думаю, это именно согласие репетиций.
Я благодарен своим соратникам, друзьям за то, как живо откликались они на весьма рискованные порой режиссерские предложения, как увлеченно искали, спорили...
Сегодня нужны талантливые спектакли, которые заинтересуют, позовут зрителя. В том числе — и молодого.
*
Где мы настоящие — в радости ли, в печали ли? Что в наших сердцах отзывается сильнее — радость или горе? Мы и там, и там — настоящие. В равной мере сгорает душа и от великой скорби, и от великой радости. Важно другое: чтобы в результате как продолжение этого потрясения душа обретала крылья — крылья радости, крылья печали. И могла воспарить к тем высотам, имя которым искусство. И найти ответ в созданиях души — трагически расстающейся с жизнью, или же звонким смехом встречающей ее рассвет. Так в жизни — порой суровой, порой радостной. Так отражено в духовных созданиях, где всё — радость, даже в трагедии. Радость, потому что сам факт создания искусства и соприкосновения с ним дает ясное ощущение сопричастности высокому душевному настрою, рожденному страданием и радостью, но — преодолевшем страданье и возвысившимся над обычными радостями, переведя их в иную галактику — создание произведения. А за этим — всегда ощущение подвига воспарившей ввысь души.
Два лика у музыкального театра. Большая опера, где все клокочет, бурлит, где в величественных, торжественных и грандиозных музыкальных построениях поднимаются вечные проблемы жизни и смерти, где решаются судьбы мира и человечества, чести и веры, любви и предательства, где в призрачном, будто в дымке, идеальном мире, отдаленно похожем на действительность, бушуют возвышенные страсти, романтические чувства, где все над землей, над бытом, над мелочными страстишками, где человеческая жизнь и рассматривается, и воспринимается укрупненно, словно под сильным увеличением, где и ты сам, сидящий в зале, под воздействием тока напряжения, льющегося со сцены, словно вырастаешь, становишься вровень с героями, объединяешься с ними, и теперь уж твои страсти вступают в непримиримую борьбу, за которой — смерть или победа через смерть, через гибель героя. И ты готов сам вознестись в неведомые дотоле высоты, обрести крылья и, словно на дельтоплане, воспарить в синее небо, став на мгновение вольной птицей. Так летали мы только в детстве, и только во сне...
И другой оперный лик — буфонный, весело издевающийся над твоими соседями (упаси боже — не над тобой, ибо твое настроение будет мгновенно испорчено), иронично и увлекательно ведущий тебя от одного веселого недоразумения к другому, уводящий в свой мир, где все достойно осмеяния, как в средние века на карнавале, оглашающим громким смехом городские площади,— осмеяния порой злобного, чаще — легкого, юмористического. Здесь тоже клокочут страсти, но это страсти особого рода, ибо герои уверены в счастливом конце, уверены в добром сердце автора, который не позволит погибнуть ни одному герою или даже остаться к финалу опечаленным. Они точно знают — каждого из них ждет счастливый конец, и их веру ничто не в силах поколебать. «Как прекрасна, как легка и весела жизнь»,— говорят вслед за автором герои комической оперы; так будем же петь, смеяться веселиться, ибо в жизни много добра и света! Так думает и поступает автор, творя свое произведение, так вслед за ним думают и поступают его герои.
Кому же из этих ликов отдать предпочтение? Кто из них ближе твоему сердцу?
Признаюсь, мне в равной степени дороги оба лика — и трагическивозвышенный, и радостно-улыбчивый, ибо истоки этих двух противоположностей — единый душевный сплав, неотделимый от человека, от его сердца и разума. Не будем противопоставлять эти два лика друг другу, не будем стараться выискивать то, что их разделяет (сегодня читаешь о «войне буффонов», о яростных спорах и драках между ревнителями opera seria и поклонниками оперы-буффа с улыбкой, иронично и спокойно; вот ведь и из-за этого тоже кипели страсти, да какие! Бури в стакане воды...). Давайте пристально и доверительно смотреть на то, что соединило многоликий музыкальный театр, дав ему великий импульс на столетия. Оба противоположных лика — они не отвернулись один от другого, они с разных сторон смотрят в глаза друг другу. Будем всегда помнить о диалектике наших душ...

На репетиции спектакля «Черевички»

Сцена из спектакля «Черевички». Чуб — В. Маторин, Солоха — В. Щербинина

Финал спектакля «Черевички». Солоха — Л. Курдюмова, Чуб — Л. Зимненко, Оксана — Л. Черных, Вакула — В. Осипов
Ритм, пространство, музыка
На дальнем берегу, в плавящемся от жары Коломбо, что на западе легендарного, пришедшего из дальнего детства Цейлона, ставшего ныне Шри Ланкой, я лежу на жарком золотом песке и слушаю океанский прибой. И не замечаю, как засыпаю от однообразного чередования звуков: удар волны, шелест песка и гальки под силой воды, и откат волны, и снова удар, шелест, откат. Заданный самой природой ритм прибоя — именно ритм! — усыпляет своим однообразием, а вернее, своей точностью, закономерностью, даже — неизбежностью, сохраняемой веками. Сколько времени бьет океанский прибой об этот солнечный берег? 100, 200 тысяч лет? Тысячелетия сохранили его вечный ритм — удар, шелест песка, откат. Он сохранится и на грядущие века — тот же ритм, закономерный и потому — вечный.
Ритм — основа жизни, основа природы. Ритмично бьет в берег океанский прибой, ритмично, в положенные час и минуту, восходит солнце и склоняется к закату, ритмично сменяет его на небосклоне луна. Ходьба, дыхание, речь, пульс сердца — это тоже ритм, заданный нам природой. И когда он нарушается, мы встревожены — аритмия, сорвано дыхание! Потому что ритм — это сама жизнь. Все, что его нарушает,— противоестественно, опасно!
Да и сам человек построен природой на основе ритма. «Биологические часы», которые определяют жизнь человеческого организма,— это же постоянный ритм, заданный природой навсегда. Нарушение ритмического хода «биологических часов» может оказаться пагубным для человеческой жизни. Ибо ритм — это природа. Аритмия противоречит природе, конфликтна по отношению к ней.
Ритм — богатство мироощущения, его разноплановость, многозначность. И вместе с тем — стремление к гармонии, к естественному порядку.
Ритм — противопоставление хаотическому нагромождению случайностей, сбивчивости, стихийности. Отсутствие ритма опасно, ибо тогда человек приближается к хаосу, теряет управление событиями, лишается возможности контролировать их, управлять закономерностями. Ритм, закономерности, естественное соотношение частей и частностей, наверное, существуют и в той таинственной и пока почти неподвластной человеку деятельности природы, как атомная реакция. Аритмия в атомной реакции приводит к катастрофе. Природа ритмична и закономерна. Отход от ритмической основы — отход от природы. Нарушение этой основы — нарушение самой природы.
Когда привычное, бытовое, ежедневное, существующее хаотично вне ритмической основы, приобретает строгость и точность ритма, подчиняется этому организованному и организующему ритму — оно становится предметом искусства. И в искусстве ритм — первооснова.
Музыка. Театр. Поэзия. Живопись. Архитектура. Все это — ритм.
Ритмическая основа музыки — условие ее существования, равно как и мелодия.
Ритмика стиха организует случайный набор слов в стройную поэтическую систему. Более того — образует мелодику стиха.
В театре всегда мучительно ищется ритм спектакля — его нерв. Потому что ритм — условие жизни спектакля. Без этого спектакль не состоится. И никакие «звезды» и роскошные декорации не помогут.
В живописи своя скрытая, подспудная ритмика пластических образов — это, так сказать, пластическая ритмика.
Стремительный, взметенный взлет сводов собора в Коломенском — это архитектурный ритм, неслышимый, но очень ощущаемый глазом. Да и не только глазом. Архитектура для меня иногда звучит. Помню беломраморное чудо Тадж-Махала — великого храма, ослепительно сверкающего в лучах индийского солнца на фоне темно-синего небесного простора. И почудилось мне, что откуда-то издалека, может, с густо-синего индийского неба звучали торжественные аккорды — и вовсе не восточная музыка, нет, это звучала классика, торжественная и строгая, созвучная величественным пластическим ритмам индийского чуда — музыка была очень знакомая, но сегодня уже трудно вспомнить, что именно звучало тогда в струящемся мареве синего неба, сквозь которое плыл белый светящийся корабль Тадж-Махала.
И еще: стоя под серо-черными каменными громадами кельнского собора, двумя стремительными стрелами, ввинченными в небо, или же замерев перед причудливой ажурной каменной вязью Нотр-Дам, я ощущал, как в душе совершенно отчетливо среди этой праздничной, радостной яви зазвучал Бах, именно Бах с его ясной и чеканной ритмикой, идеальной выверенностью ритмических соотношений. Вспомнился Гоголь, его ощущение одухотворенного пространства — архитектуры, устремленной вверх, в высоту, словно возносящейся в небо: «Воображение живее и пламеннее стремится в высоту, нежели в ширину... чтобы все, чем более подымалось кверху, тем более летело и сквозило.
И помните самое главное: никакого сравнения высоты с шириною. Слово «ширина» должно исчезнуть. Здесь одна законодательная идея — высота...»[36].
О чем это? О ритме. О целеустремленности архитектурных ритмических соотношений. Так можно писать о музыке, где все «летело и сквозило» и где «воображение живее и пламеннее стремится в высоту...» Странно — мне кажется, Гоголь писал о воплощенной в каменных вертикалях готики музыке, не разделяя два этих искусства, ибо там и там единая основа — ритм.
Ритм — это психология.
Изменилась психология — меняется ритм.
Я помню, на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко идет репетиция «Орфея и Эвридики». Классика — высокая, торжественная, с идеально выверенными пропорциями. И — да простит мне великий композитор — для нашего сегодняшнего восприятия спокойная. Даже в трагических эпизодах. Звучит гениальная музыка Гайдна, и мы все заворожены силой этой далекой (почти 200 лет!) от нас оперы. В зале — Т. Н. Хренников. Он потрясен услышанным и увиденным и обращается ко мне восторженно:
— Слушай, это потрясающе! Какое богатство, какой душевный покой! Куда мы с нашими нервами! Обязательно приду на премьеру, напомни мне!
Причина — ритм. Это ритм XVIII века. И психология века. И даже — нервы XVIII века. Ритм жизни, взаимоотношений — значит, ритм искусства, объективно отражающего действительность. Это сказалось и в классической музыке, стройность, строгость и благородная сдержанность которой в известной мере была следствием ритма жизни. И в изящности и некоей хрупкости старинных танцев, которые были обычными для ритма жизни своего времени, а нами сейчас воспринимаются как некая пластическая остановка во времени, нечто от оживших статуэток XVIII века... Давайте обратимся к старине и попробуем сегодня станцевать, скажем, паванну. И покажется нам, что все вообще остановилось — таким торжественно-медленным, почти лишенным движения окажется для нашего сегодняшнего восприятия благороднейший танец Возрождения.
В искусстве отражено время, эпоха, следовательно, ритм времени, ритм эпохи. И общественные условия, и быт. Даже неторопливый ритм передвижения, ритм экипажей и пеший ритм идущих, а тогда по городу в основном ходили. И ритм звуковых соотношений. Странно думать об этом, но в городах было тихо. Город не взрывался шумом автомашин, трамвайными звонками, голосами репродукторов, сиренами «скорой помощи», гулом самолетов. Цоканье подков по камням, скрип экипажей да мерный звон колоколов — вот и вся звуковая ритмика тогдашнего города.
Да и не надо уходить так далеко. Те москвичи, которые помнят Москву хотя бы 25 лет назад, знают, как изменилось движение в городе и каким разительным переменам подверглась звуковая партитура московских улиц. Помню, в те годы летом с балкона, выходящего на улицу Горького, в 12 часов ночи мы бросали вишневые косточки и, стоя на 9 этаже, отчетливо слышали, как косточки ударялись о тротуар. А сегодня?..
И зрительный ритм однозначен — все время несется поток машин, изредка ненадолго застывая у светофора (тогда перпендикулярно основному потоку проносится шумная толпа спешащих машин); зеленый свет — и опять мчатся навстречу один другому однообразные машинные потоки. Сегодняшний город, его пульс, его нерв. Он, в числе других раздражителей, влияет на нас, на наш психологический настрой, на наше ощущение ритма — как слышимого, так и зрительного. И когда ищешь внутренний ритм спектакля — ты ведь его ищешь сегодня, в своем сегодняшнем ощущении жизни, эпохи, и ритм этот глубоко отличен от ощущения ритма даже 25-летней давности. А полувековая разница! Да это же целая эпоха проходит в ощущении людей! Я помню, как ехал с отцом на дачу и, почуяв простор вечернего летнего шоссе, вел машину на большой скорости. Отец, приехавший к нам в Москву из Баку, где он постоянно жил, впервые сидел у меня в машине в качестве пассажира, и я, что говорится, показывал класс. И вдруг он упрекнул меня в том, что я тяну, и поэтому мы едем не спеша. Автомобилисты знают, как обидно слышать это, когда ты сидишь за рулем. Я погнал на предельной скорости. И все-таки отец остался мной как водителем недоволен. И он рассказал, с какой невероятной скоростью мчалась та первая в его жизни автомашина, на которой ему довелось прокатиться в Петербурге, накануне первой мировой войны:
— Мы неслись с такой страшной скоростью, что я от ужаса хватался за все и закрывал глаза: дома падали нам на головы, фонари врывались в кабину, и как мы не передавили пешеходов на Невском, я до сих пор не могу объяснить.
Естественно, что тогда, в 1914 году, скорость машин не превышала 30—40 километров в час. Мы же мчались на дачу со скоростью 120 километров. В чем же дело? В чем причина подобной абберации? В ритме восприятия: за полвека изменился ритм зрительного восприятия. И не только скорости стали иными, но — что для нас важнее — возросла скорость нашего восприятия. А это имеет непосредственное отношение к взаимодействию времени и темпоритма.
Темпоритм — термин, часто применяемый в режиссуре и театральной педагогике. Это интенсивность пребывания в строго определенных временных рамках. Эмоциональный уровень этой интенсивности находится в прямой зависимости от многих условий и причин, определяемых как целенаправленным действием индивидуума, так и обстоятельствами, в которых он действует.
В еще большей степени вступают в силу законы ритма, когда они применяются к массовым сценам. Выстроить массовую сцену в театре, кино, театрализованном представлении — значит создать образ народа, стремящегося к определенной цели. В зрелищных искусствах в основе массовых сцен лежит ритм. Масса — это организованность, четкость, устремленность. В противном случае — это толпа, не объединенная единой волей и ритмом, а хаотичная, куда-то бегущая, снующая, мешающая друг другу большая группа людей, постоянно «сталкивающихся лбами».
Станции метро, вокзалы, улицы большого города в час пик, болельщики, разбегающиеся со стадиона после неудачного футбольного матча, да еще при сильном дожде — это толпа, беспорядок, суета. «Броуново движение», массы живых частиц при полном отсутствии логики и организованного движения. В противоположность этому — организованная масса, некий живой организм, подчиненный определенной цели, направленный к данной цели, объединенный как внутренним ритмом, так и его внешним выражением, то есть пластическим ритмом, ритмом зрительных величин.
Только тогда масса становится активно действующей силой, если она организована ритмически и направлена к определенной цели, исходя из той глубинной ритмической сущности, которую эта цель определяет.
Пример первый. Массовая сцена «Взятие Зимнего». Цель определена в названии сцены. Определена и ритмическая основа — стремительное передвижение, расчлененное на группы. Пластически и ритмически оно выстраивается как единый порыв, и движение огромной массы участников направлено по прямой — как стрела из лука. Такой ритм пластического решения создает образ монолитной могучей массы. Вспомните этот эпизод в эйзенштейновском «Октябре», и вам станет ясно, о чем идет речь.
Второй пример. Массовая сцена «Рабочие идут на завод». Цель — успеть вовремя к началу работы. Определена ритмическая сторона — согласное движение групп в сторону заводских ворот. Но в обоих случаях ритм этих сцен будет глубоко различен, ибо различны цели, стоящие перед участниками массовых сцен. Следовательно, различна и их ритмическая основа. Следовательно, ритм — не существующая сама по себе некая абстрактная единица, а организующее начало, и его характер обусловлен конечной целью, на которую направлено действие массы. Как видим, в данном случае объединяющем, определяющим действие является ритм, чем и отличается искусство от «броунова движения».

На премьере спектакля «Москва за нами».
Хормейстер И. Мертенс, И. Шароев, композитор Г. Жубанова, Л. Захаренко, В. Кожухарь, В. Свистов, Л. Штанько
Мастера режиссуры всегда утверждали, что ритм действия — начало, организующее само действие, ибо ритм связывает все сценическое произведение в «одну монолитную массу всех частей»[37]. Поэтому нахождение ритма массового эпизода — важнейшая задача. Отсутствие ритма ведет к разрушению массы как организованной единицы и, следовательно, к полному разрушению явления зрелищного искусства. Соотношение времени и темпоритма, индивидуальное ощущение его присутствует не только в пространственно-временных искусствах. В самых различных областях человеческой деятельности проявляется оно. И вот пример из совершенно иной сферы деятельности, далекой от искусства, и тем не менее разъясняющий в известной мере некоторые закономерности соотношения времени и темпоритма. Космонавт В. Шаталов в «Автобиографии» приводит факт, представляющий несомненный интерес в отношении той проблемы, о которой идет речь. Во время старта корабля В. Шаталову показалось, что корабль... остановился и не движется! В его ощущении буквально остановилось время — секунды растянулись в бесконечность, настолько каждая секунда была наполнена громадностью происходящего! Этот пример убеждает нас, насколько относительно может быть соотношение реального времени и темпоритма. Темпоритм — это наше индивидуальное ощущение времени, обусловленное, как я уже говорил, той интенсивностью, которая диктуется как задачей, стоящей перед индивидуумом, так и предлагаемыми обстоятельствами, в которых данная задача осуществляется. Естественно, что здесь многое зависит от персональных качеств индивидуума, действующего в определенных обстоятельствах.
«Музыка как ритм и как звучание мира»,— сказал Довженко[38]. Он справедливо не разделял эти понятия. И звучание мира, и его ритмическая основа — это музыка.
Ритм, ритм — как первооснова, как великое чудо природы, чудо искусства. И если ощущение ритма режиссером совпадает с ритмом автора (я говорю не о чисто утилитарном значении темпа и ритма, а о внутреннем ритме всего композиторского творчества или же внутреннем ритме данного произведения), с его ощущением ритма времени — тогда легко и радостно будет тебе творить спектакль, ибо здесь ритм сердец будет биться в унисон.
*
У Гоголя удивительное, непостижимое ощущение пространства и движения в пространстве. Точнее — динамизм, ритм самого пространства. Обычно мы не обращаем внимания на то, что в «Мертвых душах» пространство не просто фон, на котором развивается действие поэмы, оно становится действенным фактором, введено в повествование «на равных» с хрестоматийными образами поэмы. Более того, пространству приданы качества некоего одушевленного существа, то действующего заодно с персонажами, то осуществляющего контрдействие.
Вот отрывок из девятой главы, где пространство становится активно контрдействующим компонентом: «Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!». Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного; белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она наконец не вытерпела не сказать: «Проклятое строение, и конца нет!». Кучер уже два раза получил приказание: «Поскорее, поскорее, Андрюшка! Ты сегодня несносно долго едешь!».
Удивительная находка Гоголя — не описанием чувств дамы, стремящейся поделиться сногсшибательной новостью, а противоборством пространства, будто сознательно не подпускающего даму к цели поездки, решен этот эпизод. Вот уж поистине — пространственное выражение нетерпения, поспешности, спешки. Качество чисто режиссерское — дать через ритмическую пластику пространства ощущение человека...
Еще раз о «Пиковой даме»
Возможно, то, что я сейчас скажу, вызовет резкие возражения музыковедов, даже наверняка вызовет, я уверен. Но я хочу сказать о том, что меня волнует давно. Не могу много лет избавиться от ощущения, что в «Пиковой даме» есть целые эпизоды, когда собственно действие отступает на второй план, становится как бы фоном, а вперед выходит и властно подчиняет своей воле все происходящее — голос самого автора, голос Чайковского, не просто комментирующего события, а скорбящего, глубоко страдающего, любящего, тревожащегося за судьбу своих героев, дорогих ему до слез (как мы знаем по его письмам о Татьяне, Лизе, Куме и особенно — о Германе). Эти своеобразные «лирические отступления», отстранения от прямого действия, проводятся в основном в оркестре — оркестр будоражит чувства, тревожит. Но единственный раз — через пение, в квинтете в I картине. Квинтет стал камнем преткновения для режиссеров — никто не знал, что с ним делать. Даже великому В. Э. Мейерхольду квинтет «мешал» (даже Мейерхольду!), и он его убрал. Внезапная остановка, полное выключение из действия: персонажи, вдруг оторвавшись друг от друга, застывают, и каждый остается наедине с самим собой.
Этот квинтет — одна из кульминационных точек оперы, в которой предчувствие необратимой, близкой беды гипнотизирует всех персонажей, и они останавливаются под действием этого гипноза, пораженные, оцепеневшие внезапным откровением. И в музыке какая-то странная остановка, кружение вокруг нескольких нот, заколдованный круг, в котором одновременно оказались пятеро основных персонажей оперы. У каждого своя тема, свой текст, и одновременное произнесение его делает абсолютно непонятным текст как у всех персонажей вместе, так и у каждого в отдельности. Единственное в этой словесной сумятице просветление — на фразе «мне страшно», упорно многократно повторяемой всеми персонажи. Только эта фраза и доходит до зрителя. И, конечно, чрезвычайно сумрачный, тревожный колорит, которым наполнена музыка квинтета. Что это — ошибка классика? Недосмотр, в результате которого полная неразбериха в тексте и задержка в действии, наподобие вставного номера?
Но ведь это же Чайковский, у которого ошибок в музыкальной драматургии не бывает. Значит, это преднамеренно? Тогда — с какой целью? Вот здесь мы переходим к главному.
Я воспринимаю квинтет как своего рода лирическое отступление, авторский прием отстранения, отчуждения, когда собственно действие прекращается и в полную силу звучит голос самого Чайковского. Это его тревожное раздумье, его предчувствие беды, уже нависшей над головами любимых им героев. Поэтому звучит полный словесный хаос, какое-то смятение в тексте — ничего не понять. И потом — словно авторский комментарий: «мне страшно, мне страшно, мне страшно».
До новой драматургической системы, определенной Мейерхольдом как «монтаж эпизодов», вслед ему — «монтаж аттракционов» Эйзенштейна, и, наконец, до «эпического театра» Брехта, явившегося в развитие идей Мейерхольда и Эйзенштейна, было еще более 30 лет — срок не малый (но и не такой уж большой), и еще никто не произнес в применении к драматургии, тем более музыкальной, слова «отстраненность», «отчуждение».
И не удивляйтесь, что разговор о принципах монтажа идет в применении к музыкальной драматургии Чайковского. Расхожее мнение о появлении монтажа в различных видах искусства лишь в XX веке разбивается суждениями мастеров XX века, создателей теории монтажного принципа драматургии.
Эйзенштейн в подробном исследовании о монтаже утверждал, что еще Пушкин писал «монтажно», доказывая это на примере «Полтавы» и «Руслана и Людмилы» (одна из глав эйзенштейновского исследования «Монтаж» называется «Пушкин — монтажер»).
Эйзенштейн доказывал существование монтажного метода у Ги де Мопассана, А. Н. Островского, даже — в литературных опусах Леонардо да Винчи, а также в поэзии У. Уитмена.
Я уже писал в своей книге «Режиссура эстрады и массовых представлений», что использование приемов монтажа можно найти у Н. В. Гоголя в «Мертвых душах». Вспомните отъезд Чичикова из города NN. Откройте книгу, перечитайте этот эпизод, взгляните на него с точки зрения метода монтажного «сцепления», «сборки». И вы увидите: весь принцип чередования различных планов и деталей и, казалось бы, случайный их выбор (а на самом деле логически чрезвычайно обоснованный) — их сочетание, сопоставление построено на точной и ясной мысли; здесь все продумано и находится в полном соответствии с целостностью общего замысла. Монтажный прием, дающий впечатление все убыстряющегося движения, доходящего до стремительной и почти неуловимой сменяемости объектов, летящих навстречу,— этот разбег приводит, в конце концов, к почти физическому ощущению полета, естественно выливающегося в высокий поэтический настрой авторского отступления.
Отъезд Чичикова из города NN, построенный на монтажном приеме, сводящем в один поэтический строй самые различные понятия и явления, становится как бы доминантой к кульминационному патетическому взлету — тому знаменитому лирическому отступлению, полному философских раздумий и великого чувства любви к Родине: «...Русь! Русь! вижу тебя...» (Авторское отступление, являющееся кульминацией всего эпигода, замечу, кстати, ни к Чичикову, ни к его действиям никакого отношения не имеет: это авторский прием «отстранения», тот самый голос автора, который впоследствии властно войдет в драматургию «эпического театра)».
Перечитайте еще раз эпизод отъезда Чичикова, и вы убедитесь: в этом удивительном по образному строю и ритму эпизоде рождается ощущение стремительности и монтажной четкости, присущей современному кинематографу,— здесь использованы даже резкие монтажные стыки крупного плана с общим дальним. Надпись на артиллерийском ящике — это крупный план, и внезапно — резкий монтажный рывок ввысь, за которым рождается свободный полет: в одно мгновение все становится отдаленным, обобщенным, увиденным сверху, с птичьего полета. И после крупного плана — неожиданный переход к общим дальним планам: ты вслед за автором физически ощущаешь блаженное ощущение начала полета: как постепенно удаляется земля — сверкающие полосы полей, верхушки сосен, проносящиеся под тобой и исчезающие в тумане, и еще — выше, выше — распахнутое небо...
Звуковой ряд усиливает ощущение отдаленности земли и открывшихся взору в полете неоглядных просторов: «затянутая вдали песня», «пропадающий далече колокольный звон...».
Это раскрепощенное стремление ввысь от удаляющейся земли, этот свободный полет необходимы как последняя ступенька перед кульминацией «Русь! Русь!..» — вдохновенным парением в сфере высокой патетики и поэтичности, авторским отступлением, приемом авторского отстранения, отчуждения.
...И вот — квинтет из I картины «Пиковой дамы» — прием отстраненности, вмешательства автора в действие. Этот отстраненный авторский голос в дальнейшем постоянно слышится в оркестре, отныне оркестр становится автором — комментатором. Посмотрите во II картине — уходит Графиня, и потрясенный Герман, низвергнутый с небес любовных на землю, в реальность, которая страшнее любых самых мрачных фантазий (в этом смысл образа Графини, постоянно возвращающей Германа в реальную обстановку, которая сама по себе и судьба, и беда, и роковое стечение обстоятельств). И кричит исступленно Герман: «Смерть, я не хочу тебя!» И затем ответ оркестра. Именно ответ на исступление Германа — ответ, в котором — и неумолимость, и жестокость, и трагизм. Оркестр будто предупреждает Германа о неизбежности гибели, о тщете борьбы с неодолимым. И необычайно наивно выглядит ремарка в клавире: «Лиза подходит к балкону, отворяет его и велит жестом Герману уходить». (О происхождении ремарок в «Пиковой даме» я уже говорил.)
И еще наивнее и нелепее это выглядит, когда ремарка послушно выполняется режиссерами и актерами — Лиза, став вдруг неким подобием Брунгильды, торжественно шествует (именно шествует) к балконной двери и картинным жестом показывает Герману на дверь, оставаясь в этой нелепой позе не менее полминуты. Нелепая идея неизбежно рождает нелепую мизансцену. А если вслушаться в музыку — да это же не прямое действие, опять та же авторская отстраненность, отчуждение, выключение из прямого действия.
Оркестровое вступление к сцене в спальне Графини — огромное симфоническое полотно, самостоятельное по законченности и производящее магическое действие на слушателя-зрителя, рождающее почти физическое ощущение тупика, из которого нет выхода (не случайно у Мейерхольда здесь родилась ассоциация с мухой, попавшей в паутину и судорожно пытающейся выбраться из нее).
И здесь — отчуждение, и вновь слышится голос автора, скорбящий о том, что герои обречены, что они бессильны что-либо изменить.
Так же, как в одной из кульминационных точек сцены в спальне, вновь вступает авторский комментарий: после крика бессилия Германа: «Откройте же! Скажите!» — опять в ответ грозно и неумолимо звучит оркестр, предупреждая Германа, что тщетны его усилия, что зря бьется он у ног полумертвой старухи (верх нравственного падения человеческого)... И это не просто диалог Германа с оркестром, это спор автора — и не с Германом, а с судьбой, которая все равно окажется сильнее всего (о чем автор знает, а Герман — нет). Поэтому Герман яростно продолжает борьбу, а автор трагически комментирует это, зная об обреченности своего героя.
И вновь в полную силу вступает голос автора в финале IV картины. Плачет в отчаянье над телом погибшей старухи Лиза, потерявшая все в одно мгновение; убегает в ужасе Герман, повторяющий без конца, как в забытьи: «Она мертва», и вслед ему несется могучий всплеск труб и тромбонов — мрачное торжество злой судьбы, воплощенной во внешний знак — тему трех карт. Это высказывается автор по поводу происходящего, ибо Герман уже переступил черту человечности, он предал любовь, изменил совести, чести, и он наказан безжалостно, страшно, и нет ему отныне спасения и покоя.
Но вот звучит вступление к сцене «Казарма». Вслушайтесь, какая скорбь заложена в этом удивительном музыкальном эпизоде, сколько печали в хорале, к которому постоянно возвращается мысль автора! Он отпевает, отпевает Германа, он навсегда прощается со своим героем, произносит надгробное слово, зная, что предстоит самое страшное, и конец уже близок.
Сцена «Зимняя канавка». И опять начало картины — авторский комментарий — вслушайтесь в бурное вступление, в котором крылья еще не опущены, еще звучат призывы к борьбе, ибо борьба эта праведна (она не как у Германа, у которого все, начиная со сцены бала, уже повернуто против всего и всех, и прежде против него самого). Лиза борется за святое — веру в любимого человека, и, хотя она обречена (автор об этом знает и поэтому скорбит), Лиза, озаренная верой в силу любви, продолжает борьбу; поэтому во вступлении — авторской отстраненности — он как бы благословляет Лизу на последний отчаянный шаг. Но в середине сцены он уже предупреждает Лизу о безнадежности борьбы. Последняя надежда Лизы: «Я знаю, он придет, рассеет подозренье!» — рождает ответ в оркестре, полный резкой и неумолимой определенности. «Нет! — как бы кричит автор, который ничем не может помочь своей любимой героине.— Не надейся! Счастье, покой потеряны навсегда!»
И вновь автор вступает в финале картины. Вслушайтесь, как звучит оркестр в минуту гибели Лизы — там нет спешки, суеты, беготни (не могу понять, почему обычно Лиза, приподняв платье, опрометью кидается через всю сцену, словно берет стометровку). В музыке — торжественность, даже эпичность. Это Чайковский, комментируя происходящую трагедию, словно говорит: «Смотрите, люди! Гибнет прекрасный, возвышенный, чистый человек. Гибнет прекрасная русская женщина. Она не хочет приспосабливаться, сдаваться, не хочет терять свою мечту — она и в гибели своей прекрасна!»
И наконец, финал оперы. Если ставить оперу по либретто, то «Пиковая дама» заканчивается заупокойной. Так написал Модест Чайковский, четко обозначив траурную тональность финала. Но дальше происходит одно из чудес музыкальной драматургии. Дальше слово — музыке. И оркестр — это авторский голос П. И. Чайковского. И в оркестре расцветает, ширится, растет, достигает огромной силы тема, которую мы давно забыли (последний раз она мелькнет лихорадочным намеком в спальне Графини, когда Лиза шепнет Маше: «Он, верно, там и ждет», и потом, в измененном виде — перед самым финалом) — тема любви. Темой любви, звучащей просветленно, зовуще, заканчивает великий композитор-поэт свою самую трагическую оперу. Погибли главные герои, один за другим ушли из жизни Графиня, Лиза, Герман. Но в финале торжествует мелодия любви, тема очищения, могучий катарсис. И это вновь — авторский голос Чайковского, теперь уж откровенно (единственный раз — напоследок) открывший нам тайну авторского голоса и в финальном отстранении впрямую сказавший нам, ради чего и о чем он написал самую сильную свою оперу...
У нас нет подробных свидетельств о том, как Чайковским была найдена атмосфера V картины в «Пиковой даме». Но мрачная атмосфера, которая там присутствует с первого такта оркестра,— этот похоронный ми-бемоль минор, скорбно звучащий у струнных, звуковой образ обреченности, как затаенные метания человека, понявшего, что ему пришел конец — исповедь самоубийцы, подошедшего к последней черте и открывшего для себя простую истину — завтра для него не существует — и — одновременно — скорбный голос автора, сурово и сдержанно оплакивающего близкого человека. И врывающийся в него резкий, сухой крик барабана, и нервный зов трубы, предвещающий тревогу, предупреждающий, что близится страшное испытание разума, совести, чести — испытание души человеческой.
Не знаю, где и когда, в какой петербургской ночи удалось услышать Чайковскому такие позывные военной ночной столицы (никаких следов сегодня найти нельзя), но это прежде всего было услышано тончайшим ухом великого музыканта и отложено в «запоминающей машине» памяти гения...
Равно как и хор певчих, доносящийся откуда-то издалека,— то ли ночная служба, то ли отпевание ушедшего доносится из ближайшего собора, то ли в лихорадочном мозгу близкого к помешательству Германа звучит погребальный хор, но звучание его — и потустороннее, и одновременно реальное — очень точное и узнаваемое. Эта краска тоже — из огромного потока реальных слуховых впечатлений, найденных композитором в обычной жизни и затерянных в памяти до поры до времени.
И наконец, порыв ветра, распахивающий окно. Такая, казалось бы, бытовая деталь в V картине воспринимается буквально мистически. Это — как зов из другого мира, напоминание о приближении неотвратимого, ирреального, борьбы с которым быть не может, которому можно только подчиниться или умереть. Это все звучит в музыке, потому что Чайковский пишет эту сцену через восприятие Германа, и это Герман воспринимает распахнувшееся окно как зов из другого мира, зов вечности. Порыв ветра уносит голоса хора — наступает новая фаза кошмара Германа. Та буря, которая поднимается в оркестре после порыва ветра, распахнувшего окно (реальное действие), приводит к ирреальному и жуткому — стуку в окно и приближающимся шагам за дверью.
Итак, вся эта фантастическая картина, неотвратимо подводящая нас к ужасу и мистике — появлению призрака Графини,— построена на самых простых, обычных, жизненных звукосочетаниях:
а) дробь барабана;
б) сигнал трубы;
в) пение церковного хора;
г) порыв ветра, распахнувшего окно;
д) стук в окно;
е) приближающиеся шаги.
Все реально, если бы не Герман, знающий свою обреченность и предчувствующий встречу с ирреальным. Но из-за восприятия Германа все нагнетается с каждой секундой, и счет уже идет на мгновения — так все спрессовано, сжато, сведено в единый неразрывный драматургический клубок, что иного пути, как пути к призраку, у Германа нет — он уже зажат в тиски замкнутого круга, и выхода ему не найти. Единственно, что еще может дать отсрочку — это соприкосновение с ирреальным, и он идет на это.
Мне всегда казалось, что Герман, потерявший в спальне Графини все — любовь, надежду вырваться из той жизни, которую определила ему судьба, невольно ставший преступником, убийцей, Герман, потрясенный всем случившимся и сделавший решительный шаг к безумию,— он сам невольно вызывает призрак Графини, втайне надеясь, что в этом его спасение. Ведь он все-таки идет на панихиду по Графине, и даже находит в себе силы подняться «по ступеням черным» к гробу, и долго смотрит на покойницу. Зачем? С какой надеждой? Может, все-таки надеясь, что из гроба она ответит ему. Когда он видит, что Графиня умерла,— ни капли раскаянья в совершенном преступлении нет, одна мысль: «Она мертва, а тайны не узнал я». Фраза, лихорадочно повторяемая неоднократно. «Человек под влиянием аффекта весьма часто повторяет одно и то же восклицание, одну и ту же фразу»[39].
Все-таки он сам вызывает призрак, в последнюю минуту поняв, на что он идет (это уже было у Шекспира: Гамлет тоже в минуту отчаяния переступил грань и вошел в соприкосновение с потусторонним миром, но все-таки то был призрак отца, а здесь — убитая самим Германом Графиня).
И дальше — кульминация. Не в появлении призрака, как это считается обычно, а до призрака — здесь исчезает пение, и Чайковский отдает кульминацию оркестру, ибо никакими словами не рассказать то, что творится в душе Германа, это под силу только музыке. Самый сильный и жуткий момент действия: те последние секунды перед появлением призрака, когда метания оркестра достигают страшной силы яростного сопротивления — именно сопротивления, почти физически ощущаемого упорства удержаться, не сделать последнего шага — ощущение самоубийцы, стоящего над пропастью, на краю скалы и решающего совершить прыжок — полет в никуда.
Откройте партитуру в сцене появления призрака и проследите процесс, который совершается в музыке, начиная от Moderato con moto. В музыке почти натуралистически и подробно рассказано, как прекращает свою жизнь разум, как под воздействием иных сил (обстоятельств, судьбы, рока — назовите это, как хотите) разрушается личность, душа человека, хранящая любовь, радости, надежды, честь, разум.
Последний, огромной силы рывок, порыв оркестра, в котором — и отчаянье от всего, что произошло, и почти физическая боль, и ужас перед неизвестным, и ожидание возмездия, и метания от осознания бессилия своего, беспомощности и вместе с тем остатки желания вырваться из каменного склепа, в который он загнан жизнью,— все это звучит в оркестровой буре, предшествующей появлению призрака.
Могучий ход нисходящих и вместе с тем повышающихся на полтона с каждым новым вздохом секвенций неумолимо приводит к удару — си-мажорному аккорду, который неожидан в этом гениальном музыкальном хаосе (Andante non tanto). И затем — последние лихорадочные, конвульсивные стремительные даже не фразы — обрывки фраз, намеки на фразы — как в кошмаре, вызванном больным воображением.
Это последнее отчаянное усилие человеческого мозга, последние секунды существования разума, судорожное цепляние, чтобы остаться разумом, не терять окончательно душу человеческую, не превратиться в животное, лишенное мысли и сердца. Внезапный обрыв — словно камень улетел в пропасть — на полуслове, полуфразе. И на смену — безжизненные, жуткие триоли, отсутствие мелодического рисунка и те же нисходящие секвенции, но теперь лишенные чувства, лишенные души.
Это — да простят меня музыковеды — чистая клиника: здесь гениально зафиксирован в музыке процесс сумасшествия — та точка, когда человек прощается с уходящим сознанием, последний, огромной силы эмоциональный взрыв музыки и затем — остановка, холод, бесстрастный голос призрака и одна нота фа, назойливо повторяющаяся бессчетное количество раз: эмоции, разум, жизнь — все ушло, осталось безумие, равносильное смерти.
Так написана эта несравненная, изумительная по точности психологического рисунка сцена, достигающая огромной трагической силы и ставящая точку в развитии действия, судеб героев, их характеров. Все, что происходит здесь, в этой картине, кульминационно, все, что следует затем, производно от этой кульминации. Но что бы ни происходило, оно уже не изменит совершившегося: безумия Германа. Непоправимое совершилось, и все последующее определено этими секундами сцены «Казармы» — когда угасающее сознание Германа совершает последние страшные усилия удержаться, спастись от безумия. Это — конечный результат, созданный великим музыкальным драматургом. А отправные точки простые — обычные, взятые из быта, неоднократно слышимые композитором звукосочетания.
Письмо Чайковского в Петербург, в театр, по поводу постановки «Пиковой»: «В 5-й картине отдаленное панихидное пение должно, мне кажется, исполняться певчими, а не театральным хором. Это будет гораздо характернее»[40]. Конкретное требование, исходящее из реального ощущения этой сцены и очень точное по характеристике. Небольшой этюд к вопросу о психологии творчества.
*
В Германе для меня соединены громадные чувства и мысли. В Германе — героическое начало, поэтому в нем мне дороги не проблемы «маленького человека» (ибо он один выходит на битву с судьбой, со всем, что противостоит ему,— социальным, общественным), а его неукротимое стремление к счастью, к радости, отчаяние, метание и упорство — до конца, до безумия.
Такой он в музыке Чайковского, таким он должен быть в конкретном сценическом решении. «Колоссальный тип» — сказал о пушкинском Германе Достоевский. Эта колоссальность осталась и у Германа Чайковского, хотя акценты и смещены. Неоднократно подступал я к «Пиковой», и каждый раз для меня наслаждением было разгадывание Германа, постепенное приближение к глубинной сути его характера. Сотни раз слушал я музыку, читал партитуру, пытаясь проникнуть в тайну этого зашифрованного и вместе с тем такого человечного образа.

На репетиции оперы «Пиковая дама»
в Баварской национальной опере, Мюнхен.
Слева — Джулия Варади
Главное — выявить и сценически воплотить диалектику души Германа, его трагический путь от экстатического: «Красавица! Богиня! ![]() Ангел!» — к призраку, к безжизненному, лишенному эмоций и разума «тройка, семерка, туз». Путь этот настолько точно, даже — да простит мне Чайковский — скрупулезно выписан в музыке, что главная задача — услышать бы все в партитуре, не пропустить хотя бы малейшей детали. Этот путь — целая история жизни человека, эволюция его души, мировоззрения, восприятия действительности.
Ангел!» — к призраку, к безжизненному, лишенному эмоций и разума «тройка, семерка, туз». Путь этот настолько точно, даже — да простит мне Чайковский — скрупулезно выписан в музыке, что главная задача — услышать бы все в партитуре, не пропустить хотя бы малейшей детали. Этот путь — целая история жизни человека, эволюция его души, мировоззрения, восприятия действительности.
«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...» Это — Лермонтов. Великий сердцевед, великий знаток душ людских. Равно как и Чайковский, гениально воплотивший в музыкальном образе Германа «историю души человеческой». Уловить бы это движение души, не погрешить против музыки, не изменить бы, не заняться мелочами быта там, где речь идет о великих движениях души, да еще души Германа — глубокой, равно искренней и в любви, и в отчаянии...
«Пиковая дама» на сцене мюнхенской оперы
В канун Нового 1985 года мне довелось поставить в Мюнхене на сцене Баварской национальной государственной оперы спектакль «Пиковая дама» П. И. Чайковского с участием известных певцов Большого театра: Елены Образцовой, Владимира Атлантова, Тамары Синявской, Людмилы Шемчук, Александра Ворошило. В спектакле приняли участие и известные немецкие певцы. Джулия Варади, исполнившая партию Лизы, по свидетельству прессы, снискала в ней феноменальный успех. В партии Елецкого выступил Бодо Бринкман, также получивший прекрасные отзывы рецензентов. Но главными героями дня стали наши Владимир Атлантов и Елена Образцова.
Оперный театр в Мюнхене по праву считается одним из крупнейших в Европе. Высокая сценическая и музыкальная культура театра, его интерес к различным стилям оперного творчества издавна привлекают к нему лучших певцов, дирижеров, режиссеров мира. Поэтому не случайно наши выдающиеся оперные «звезды» Елена Образцова и Владимир Атлантов — частые гости на сцене этого театра. Не случаен, думается, и интерес, проявленный руководством театра к подлинному шедевру русского оперного искусства — «Пиковой даме» Петра Ильича Чайковского, которая впервые в ФРГ шла на русском языке.
Надо сказать, что Пушкин и Чайковский для местной публики — фигуры достаточно загадочные. Мы смогли в этом убедиться на встрече, организованной театром с журналистами и зрителями, которая была проведена накануне премьеры. По вопросам, адресованным нашей постановочной группе (в нее входили дирижер Альгис Жюрайтис и художник Георгий Месхишвили), можно было понять, что поэзию и прозу А. С. Пушкина здесь знают довольно приблизительно, а музыку П. И. Чайковского, я бы сказал, как-то односторонне. Наш великий композитор воспринимается прежде всего как лирик, не возвышающийся до трагических глубин, как автор оперы «Евгений Онегин» (идущей в Мюнхене на немецком языке), и только. Поэтому, когда мы на этой встрече вели разговор о великой трагедийной силе образов «Пиковой дамы», о внутренней, глубинной связи оперы с трагедийным музыкальным колоссом — Шестой симфонией композитора, было такое ощущение, что нам не очень доверяли. К слову сказать, это был один из интереснейших диспутов, на котором мне когда-либо приходилось присутствовать. Нам удалось поколебать уверенность оппонентов. Но самым убедительным аргументом оказался сам спектакль. Достаточно сказать, что, когда отзвучали последние фразы оркестра, весь зал 25 минут стоя аплодировал, кричал «браво». На своем веку я не помню подобного успеха русской оперы за границей...
Спектакль был сделан за очень короткий срок. У себя мы привыкли работать подолгу — полгода, год. Постановка в Мюнхене меня привела к мысли, что, может быть, стоит как-то концентрировать работу над оперным спектаклем. И тогда бы у нас чаще обновлялся репертуар, имели бы возможность интересной творческой работы режиссеры, дирижеры, молодые певцы. С первых же минут нашего пребывания в Мюнхене мы были окружены самым теплым дружеским вниманием. В самом театре установилась сразу благоприятная дружеская атмосфера, и за все время у нас не было ни конфликтов, ни недоразумений. Об этой слаженности в работе говорили сами немцы, в частности выдающиеся музыканты ФРГ Вольфганг Заваллиш и Дитрих Фишер-Дискау.

VII картина из оперы «Пиковая дама»
Баварская национальная опера. Герман — В. Атлантов
Я хотел бы отметить великолепную организацию всех постановочных цехов театра, которая, несомненно, очень помогла нам в столь кратчайшие сроки создать спектакль, пользующийся в настоящее время колоссальным успехом у европейского зрителя. В этом большую роль сыграла и организация рекламы. Каждый зритель был обеспечен довольно-таки объемистым буклетом, в котором на десятках страниц было рассказано и о А. С. Пушкине, и о П. И. Чайковском, об исполнителях партий, постановщиках, напечатано полное либретто, словом, зритель получал исчерпывающую информацию, которая, безусловно, способствовала пониманию великого творения русского оперного искусства...
Спектакль в мюнхенской опере по замыслу и воплощению коренным образом отличался от спектакля Большого театра. Вся наша постановочная группа стремилась дать принципиально новое решение привычной для нас опере, которая идет во многих театрах страны. Все советские певцы, которые уже по многу лет поют в этой опере, на мюнхенской сцене как бы заново прочли свои партии.
Великолепный образ старой Графини создала Елена Образцова. Покорила местную публику и Людмила Шемчук в партии Полины, критика отметила ее «мягкий, по-русски сердечный голос». Не менее интересной в той же партии была и Тамара Синявская, запомнился Александр Ворошило в партии Томского.
Об исполнении партии Германа Владимиром Атлантовым нужно говорить особо. Атлантова я знал много лет. И всегда восхищался им. Но как-то издали. Встречи наши бывали кратковременными — в театрализованных концертах в Кремлевском Дворце съездов и в Большом театре Союза ССР.
По-настоящему же встреча произошла на «Пиковой». Герман — одна из лучших ролей выдающегося певца-актера, она стоит в том же ряду, что Отелло и Хозе. Мир образов Атлантова — целый пласт в нашей оперной культуре, в оперном театре. Феноменальный по красоте и силе голос, редкая музыкальность, неуемный темперамент, уникальный драматический дар, обаяние, прекрасная внешность — это Атлантов. Совокупность, единение в одном человеке стольких качеств и дало феномен одного из лучших оперных артистов мира.
Германа он пел сотни раз, поэтому перед встречей с ним я волновался, захочет ли он отказаться от привычного, нажитого десятилетиями, тем более, что его Герман общепризнан.
И вот — первая встреча. Она сразу поставила все на места.
Атлантов искал нового решения напряженно, упрямо шел он к образу Германа, выстраивая его в рамках, заданных нашим спектаклем. У нас не было ни одной «пустой» репетиции, буквально каждая минута ее наполнялась нервом, необычайной пульсацией, прорывом к неожиданным решениям. Он выходил на репетицию собранным, готовым к работе, устремленным к цели, как стрела. И начинал работать сразу, с первой минуты, в полную силу. И до конца 3-часовых репетиций это напряжение не спадало, а наоборот, возрастало. Шел поиск неустанный, порой трудный, порой мучительный, но всегда с верным и точным ощущением конечной цели. И к каждой репетиции Атлантов приносил что-то свое, новое, неожиданное — то, что было выстрадано им и рвалось наружу из глубин души. К нему полностью применим парадокс Жана Ренуара: «Большой актер велик в той мере, в какой он от вас ускользает, оставаясь при этом воплощением того замысла, который вы лелеяли до его появления»[41].
Работать с певцом непросто. Он не всегда ровен — иногда бывает раздражен, нервен, но потом быстро остывает. А вообще настроен он, как правило, хорошо, и при всей серьезности отношения к работе юмор не покидает его. Работали мы быстро и продуктивно. Атлантов очень точен в работе, все, вплоть до малейших деталей, заранее обдумано и выверено. Это — настоящее мастерство, все сделано высокопрофессионально и приведено к единому знаменателю роли, диктуемому музыкой.

Репетиционный момент VII картины оперы «Пиковая дама».
Баварская национальная опера. В роли Томского — А. Ворошило
Он сам — отличный музыкант: в прошлом скрипач, мой коллега (я тоже был скрипачом). Поэтому каждую музыкальную фразу отделывает с ювелирной точностью, и случайностей у него не бывает.
На репетициях мне казалось, что он сознательно обозначает берега, по которым плыть его эмоциональной стихии (а ее у Атлантова с избытком!). И на спектаклях это проявилось. Все, чего мы с ним добивались на репетициях, осталось, вошло в спектакль вплоть до мелочей. Но на премьере родилось новое качество — та неудержимая стихия, которая отличает замечательного певца-актера.
В III картине Герман, будучи не в силах совладать с обстоятельствами, идет неожиданно для себя на ложь — обманывает Лизу, получив от нее ключ. Этот, казалось бы, незначительный момент мы акцентировали в актерском исполнении, ибо здесь, в сцене с ключом, начиналась та новая линия Германа, которая приводила к трагической развязке.
Вспомним: «Но под давлением жизненных условий он, правдивый человек, допустил маленькую ложь... Это была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которой он завяз теперь»[42]. Показать процесс постепенного удаления от своего идеала, подмены идеала вымышленной целью и неукротимое стремление к этим химерам — труднейшая задача для исполнителя. Однако Атлантов убедительно воплотил ее. И чем дальше уходил его Герман от своего идеала, чем больше топтал его, тем скорее приближался к нему призрак безумия.
Сцена с ключом — начало этого процесса. И в одной короткой фразе Германа: «Как? В спальню к ней?» — заключено столько наплывающих одна на другую мыслей и чувств, что их хватило бы на целую арию: здесь и радость от того, что заветный ключ в руках, и трепет от внезапной мысли, что тайну можно наконец вырвать у Графини, и боязнь за Лизу, и совестливое чувство стыда перед ней (ведь он решает обмануть любимую), и скрытая надежда — а вдруг удача? Но сконцентрированность действия у Чайковского такова, что он не останавливает действенного потока и не дает арию главному герою: все это многообразие чувств и мыслей заключено в две короткие фразы. И актерски выразить весь этот сложнейший конгломерат эмоций — трудность огромная. Атлантов проводил сцену с ключом внешне скупо, затаенно, но с громадным внутренним напряжением, и вся гамма противоречивых чувств, бушевавших в душе Германа, читалась очень отчетливо и убедительно. А это — мастерство высшего класса не только для оперного, но и драматического театра. В партии Германа он достиг самых больших трагедийных высот, необычайно верно и убедительно воссоздавая диалектику души своего героя, постепенно погружавшегося во мрак безумия. Поэтому просветление в финале — такое щемящее, пронзительное, так полно сожаления о непоправимом...
Вот уж несколько лет прошло, а я все вспоминаю о нашей совместной работе над «Пиковой», и некая ностальгическая нота звучит во мне...
И странная вещь — каждый раз, когда заканчиваешь спектакль, понимаешь, как ты далек от глубинной сущности этой оперы, как много еще неизведанного, неразгаданного таит она в себе.
«Два Орфея»
С этой идеей я носился давно. Много лет назад, в 1960 году, мы с дирижером Е. А. Акуловым решили поставить на Всесоюзном радио «Орфея и Эвридику» И. Гайдна. Опера никогда у нас в стране не исполнялась, и ее попросту, кроме музыкантов, никто не знал, путая с глюковским «Орфеем». У нас не было ни партитуры оперы, ни русского текста. Поэтому пришлось выписывать из-за рубежа партитуру, а русский текст делать самому.

И. Шароев и Ясуси Акутагава
Надо сказать, что в 60-е годы Всесоюзное радио очень активно занималось пропагандой «забытых страниц» оперной классики и постановкой новых советских опер. Мне пришлось неоднократно принимать участие в создании музыкальных спектаклей Всесоюзного радио — именно спектаклей, потому что наиболее удачные из них в дальнейшем ставились в Колонном зале Дома союзов и Концертном зале имени П. И. Чайковского. Оперы, прозвучавшие по радио и вынесенные на концертные эстрады, ставились, как правило, с известной долей театрализации. Это были своеобразные спектакли-концерты — с мизансценами, а бывало — в костюмах, гримах и с театральным реквизитом.
Постановка опер в концертном исполнении — целый пласт в режиссуре музыкального театра. Я представляю себе этот жанр (а это, мне кажется, самостоятельная жанровая разновидность зрелищных искусств) достаточно сложным, он зачастую, может, сложнее, нежели обычная оперная постановка. Сложнее потому, что в отличие от театра в руках у режиссера чрезвычайно ограниченный арсенал выразительных средств. Скупые мизансцены (точнее, намек на мизансценирование), свет, детали костюмов — вот, собственно, и все, чем обладает режиссер при постановке опер в концертном исполнении. Секрет режиссерской работы здесь заключается в сознательном ограничении, в стремлении не за счет внешних знаков, а за счет точной работы по внутренней линии с исполнителями воссоздать тот феномен театрального искусства, что так точно К. С. Станиславский называл «художественной жизнью человеческого духа».
В тех случаях, когда это удается, вся условность концертного исполнения уходит на второй план, на нее уже не обращаешь внимания, и первостепенным становится музыка, судьбы героев, их психология, взаимоотношения. И чем условнее сценическая среда, в которой происходит действие, тем безусловнее должно быть самочувствие исполнителей и, как ни парадоксально, значительно точнее, правдивее, я бы сказал, объемнее, нежели в театре, где многие компоненты театрального искусства помогают артисту, а зачастую и закрывают его профессиональную беспомощность. А здесь, в концертном исполнении, артист весь на виду, как на ладони, и должен воссоздать «художественную жизнь человеческого духа» без помощи обычных театральных средств, а только лишь за счет своего мастерства и таланта. Поэтому «концертное» исполнение (я беру это слово в кавычки, потому что и концертное исполнение — своеобразный музыкальный театр, только со своими специфическими условиями) требует и от режиссера, и от исполнителей подробной и точной работы над образом.
Начинание Всесоюзного радио имело большой резонанс в Москве, поддерживалось прессой, музыкальной и театральной общественностью, залы были переполнены, когда оперы шли в концертном исполнении. Но постепенно энтузиастов становилось все меньше и меньше, оперы стали ставиться все реже и реже, и в конце концов дело большого культурного значения растворилось и исчезло.
Когда мы приступили к осуществлению гайдновского «Орфея», мы понимали — успех решал главный исполнитель. Сложность заключалась в том, что в авторском подлиннике партия Орфея написана для меццо-сопрано, и тесситура чрезвычайно сложна — от до первой октавы до си второй. Но мы с Е. А. Акуловым отказались от идеи поручить партию Орфея меццо-сопрано (необходимо было учитывать и то, что опера готовилась для исполнения по радио, и путаница тут драматургическая была бы несусветная). Решили передать исполнение партии Орфея тенору. Несколько проб прошло неудачно: у теноров либо звучал верхний регистр и «завален» был низ, либо низ звучал прямо баритонально, но проваливались верхние ноты, настолько сложной оказалась партия гайдновского Орфея.
И, наконец, находка! Анатолий Иванович Орфенов — превосходный певец, музыкант, артист, еще в юности прошедший школу мастерства, равной которой нет в мире,— он был учеником К. С. Станиславского, готовил с ним Герцога в «Риголетто» и ряд других ролей. Удивительная это была встреча со школой великого реформатора. В процессе работы с Орфеновым я убедился — ни лишнего слова, ни лишней ноты! Все чрезвычайно точно, скрупулезно выверено, осмысленно, филигранно отделано. Тесситурные проблемы исчезли (ибо голос Орфенова звучал одинаково ровно во всех регистрах), и им на смену пришли иные, более глубокие проблемы, проблемы искусства — смысла, образа, авторского стиля. В ходе репетиций мне приходилось частично исправлять текст там, где он был неудобен с точки зрения вокальной (что тоже было делом нелегким, но — и я это отлично понимал — необходимым). Секрет переводного текста заключается не только в том, что он должен быть эквиритмичным. Это является элементарно обязательным для автора перевода. В каждом законченном музыкальном куске (номере, эпизоде, сцене) есть своя кульминация. И музыкальная кульминация должна совпадать с кульминацией в тексте, иначе текст будет сам по себе, музыка сама по себе. Ощущение слитности — и смысловой, и эмоциональной — дает идентичность кульминации в музыке и в тексте. Но этим далеко не исчерпываются требования, предъявляемые к тексту перевода (я не веду здесь разговор об «общих местах» — образности текста, выразительности и т. д., ибо сии истины сами собой разумеющиеся). В музыкально-вокальной фразе есть эмоциональный всплеск, тот ударный момент, который аналогичен логически ударным словам в тексте. Нарушение логических ударений неизбежно ведет за собой потерю смысла текста. Поэтому текст перевода обязательно должен выверяться с точки зрения совпадения логических ударений с аналогичным ударным местом каждой музыкальной фразы. Но этот процесс никак не должен идти за счет образности и выразительности текста. К этим простым профессиональным истинам, о которых пишу сейчас, я пришел в работе над русским текстом «Битвы при Леньяно» Верди и гайдновской оперы «Орфей и Эвридика».
Опера Гайдна «Орфей и Эвридика» неоднократно звучала по радио на всю страну. И мы, инициаторы создания музыкального радиоспектакля, гордились тем, что с изумительной гайдновской музыкой познакомились миллионы радиослушателей. А затем, после исполнения по Всесоюзному радио, оперу записали на грампластинку, и она получила в Париже «Золотой диск».
С тех пор преследовала меня идея свести воедино классического гайдновского «Орфея» с современным прочтением этой темы. Мне хотелось монтажно сопоставить в противоположных творческих решениях тему гуманизма, веру в силу любви, способной творить чудеса, веру в победу добра и света, и этим монтажным приемом подчеркнуть вечность темы Орфея, ее непреходящее значение.
Я стал искать современного Орфея, пересмотрел ряд вариантов и не нашел возможности монтажного соединения с классическим гайдновским «Орфеем». Видимо, необходимо было найти более контрастное, более неожиданное решение, никак не повторяющее ни Глюка, ни Гайдна, но близкое им по своему внутреннему духу, рождающее современные ассоциации. Однако тогда, много лет назад, с идеей создать двух Орфеев пришлось распрощаться. Возродилась она неожиданно, и все началось, как многое теперь происходит в нашей жизни, с телефонного звонка.

Сцена из оперы «Орфей в Хиросиме».
Юноша — А. Лошак, Девушка — Л. Казарновская
...Однажды зимой 1984 года, в традиционное время — около 12 часов ночи — раздался звонок. Звонил Т. Н. Хренников. В мае — II Международный музыкальный фестиваль в Москве. Тихон Николаевич предлагал Музыкальному театру исполнить в дни фестиваля в Большом зале консерватории оперу японского композитора Ясуси Акутагавы «Орфей в Хиросиме».
В ближайшие дни Тихон Николаевич передал в театр клавир, либретто и запись оперы в исполнении японских артистов, присланные в Москву Акутагавой. Я прослушал запись оперы и был потрясен ее силой и глубиной. Сомнений не было — надо ставить. Я слушал японского «Орфея» и понимал, что вот наконец найдено то, что я безуспешно искал 20 с лишним лет,— второй Орфей! Да какой! Весь рассказ об Орфее — взметенный, вздыбленный, наполненный огромной силой экспрессии, трагический и гневный — Орфей, прошедший сквозь ужас Хиросимы!.. И какой контраст с идеально строгой, мудрой, торжественной и спокойной для нашего сегодняшнего восприятия музыкой Гайдна! Что там сцены в аду, танцы фурий, шествия теней перед ужасом Хиросимы, перед атомным взрывом, унесшим сотни тысяч жизней!
Опера Ясуси Акутагавы привлекла прежде всего высокой идеей гуманизма, драматизмом заложенной в ней личной судьбы, поднятым на высоту общечеловеческой трагедии. Не случайно автор дал к опере предуведомление, в котором подчеркивал, что хотя действие происходит в Хиросиме, но подобное может произойти в любой стране, с любым человеком, пережившим разрушительное действие ядерной войны.

Сцена из оперы «Орфей и Эвридика». Эвридика — Л. Черных, Орфей — А. Мищевский
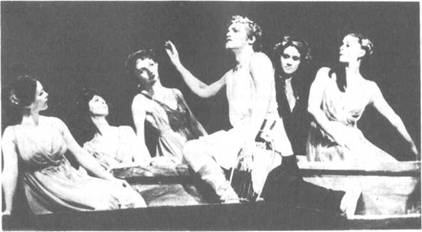
Сцена из оперы «Орфей и Эвридика». Орфей — В. Таращенко
Юноша, герой оперы, на грани безумия — настолько сильно его отчаяние. Ибо жить ему осталось всего несколько часов. Но недаром композитор назвал его современным Орфеем — именем героя древнегреческого мифа. Акутагава так выстроил музыкальную драматургию произведения, что через все видения, мистические сцены, символизирующие агонию отчаявшегося человека, герой все же приходит к вере в жизнь. Вечно прекрасное, непреходящее чувство любви возрождает его к жизни.
Мы восприняли оперу как яркое публицистическое произведение, остро ставящее перед современниками проблемы нашего дальнейшего бытия.
В конце мая начались репетиции оперы в Большом зале Московской консерватории. Акутагава прилетел в Москву на премьеру своего произведения, мы встречались с ним на репетициях, беседовали, и эти встречи мне очень много дали. Он был чрезвычайно тронут тем, что мы обратились к его музыке, говорил, что писал оперу «болью сердца». Потом, в интервью, данном «Советской культуре», он коснулся примерно тех тем, которые мы с ним обсуждали: «Для меня, пережившего смерть старшего брата, погибшего во время второй мировой войны, и для всего японского народа, для которого то, что произошло в Хиросиме, стало национальной трагедией, проблема сохранения мира на планете звучит особенно остро. Мы знаем одно: Хиросима не должна повториться! Из этого чувства протеста я и писал «Орфея в Хиросиме»[43].
Ясуси Акутагава — сын классика японской литературы Рюноске Акутагавы, великого писателя, духовно связанного с русской литературой. Рюноске неоднократно указывал, какое огромное влияние оказали на него титаны русской литературы — Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, И. С. Тургенев. Так что, думается, связи Ясуси Акутагавы с нашей страной, его дружба с Союзом композиторов СССР имеет корни значительно глубже, чем может показаться при первом знакомстве. И симптоматично, что Акутагава не только крупнейший композитор современной Японии, он и известный общественный деятель, президент Федерации японских композиторов, один из создателей общественного движения «Деятели культуры за безъядерный мир».
Вот с творчеством такого удивительного человека посчастливилось соприкоснуться Московскому музыкальному театру и многое почерпнуть у него. Потом, не скрою, наш интерес подогревался еще и тем, что мы первые ставили японскую оперу в нашей стране (как ни странно, среди зрителей бытует мнение, что «Чио-Чио-сан» — тоже японская опера: очевидно, при этом вспоминается обязательная для всех постановок цветущая сакура и упускается из виду фамилия композитора).
«Орфей в Хиросиме» прозвучал в Большом зале в конце мая 1984 года на II Международном музыкальном фестивале в Москве. Успех, сопровождавший концертное исполнение оперы, убедил нас в правильности выбора.
После концертной премьеры у Акутагавы были только две просьбы ко мне, как постановщику будущего спектакля: чтобы Шофер из страны Смерти, убивающий Юношу, был в костюме войск СС и чтобы в финале отсчет последним секундам, который ведет мужской хор: «10...9...8...7...», шел не на русском языке, как в Большом зале консерватории, а обязательно (и он это подчеркнул), обязательно на английском. На мой вопрос, чем обусловлена последняя просьба, Акутагава объяснил: это как бы записанные на пленку голоса американских летчиков, уже пустивших атомную бомбу на Хиросиму — осталось лишь несколько секунд до ее взрыва... И мне стало ясно, насколько опера — протест выдающегося композитора — имеет точный адрес, и что стоит за его словами «боль сердца»...
Я. Акутагава:
«Рад, что идеи и мысли, волновавшие меня и автора либретто Кэндзабуро Оэ, оказались созвучными общей атмосфере форума прогрессивных музыкантов мира, а также творческим запросам исполнителей оперы. Артисты Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко сумели проникнуться той болью сердца, которой создавался «Орфей в Хиросиме»[44].
...И вот — «Два Орфея». В один вечер с оперой Акутагавы звучал «Орфей» Гайдна. Нам хотелось показать силу великого чувства любви, которая способна как и в очень давние времена, так и сегодня возродить душу человека, его веру в жизнь.
Сведенные воедино, такие непохожие, даже противоположные по стилю и эстетике, вместе с тем обе оперы оказались внутренне родственными. И хотя расстояние между ними почти в 200 лет, тем не менее стремление объединить два таких различных, отличающихся одно от другого произведения было призвано утвердить, как справедливо отмечалось в журнале «Советская музыка», на широком историко-культурном материале веру в торжество света и добра, в неизбывную силу высоких человеческих чувств. Оба Орфея полны огромной веры в человека, в высокий полет его души, веры в то, что через все испытания пройдет человек и останется Человеком, победив зло, предательство, смерть. И тогда перед человеком окажется беспомощным все зло мира: и царство теней, и черный мрак могил, и злые фурии, и каменные скалы, стерегущие вход в подземный мир, не пускающие Орфея к Эвридике, так же как атомная бомба, лучевая болезнь и сама смерть, следы которой увидит на своем лице новый Орфей, и самый ад Хиросимы. В этом — человечность, нравственная основа обоих «Орфеев», их могучая эмоциональная сила воздействия, философская глубина произведений.
Как же решать «Двух Орфеев»? Где найти пластическое единение двух таких разностильных и разнохарактерных произведений? В том ли, что в древнегреческом «Орфее» сделать изобразительный намек на грядущую атомную катастрофу, а в современном «Орфее» поставить белые полуразрушенные колонны, дав намек на погибшую в атомном аду вечную древнюю культуру? Может, и так. Но такое решение, правомочное в принципе, казалось мне каким-то близлежащим, поверхностным, первым, что приходило в голову. И от него я отказался, ибо всякая предвзятость в режиссерском решении всегда назойлива и нарочита. Гораздо интереснее было искать иные «ходы» в решении «Двух Орфеев». Мне представлялось, что ценнее найти внутренне единый стержень для всего спектакля — стержень, который объединит действие «Двух Орфеев».
Как найти зримый образ Греции? В чем он? В белых портиках, колоннадах, знакомом с детских лет силуэте Парфенона, классических хрестоматийных статуях, изображениях на амфорах?
В чем Греция? И не театральная, тысячу раз виденная, а подлинная, вещественная, настоящая? А может, нужно искать другое — какой-то образ, скорее, знак Древней Эллады?
И вот тут мне повезло: в марте, когда в Москве еще ходили в теплых пальто и меховых шапках, я оказался в Элладе прекрасной ранней греческой весной (ртутный столбик к тому времени прочно перевалил за 20 градусов). Шли Дни Москвы в Афинах, и в качестве главного режиссера этих Дней я две недели был в Греции. Случилось это за полгода до постановки «Двух Орфеев».
Там, на благословенной земле Древней Эллады, пришло отрезвление от того, что мы привыкли созерцать в театре — этакую классически благополучную, в колоннах и портиках беломраморную Грецию. Я в изумлении убедился, что Древняя Эллада никакая не ослепительно белая, а всего лишь желто-серая. Парфенон, остатки которого чудом сохранились,— чудом, потому что землетрясения, войны, подкопы и взрывы так его калечили веками, что не понятно, как они еще дожили до наших дней,— Парфенон желто-серый, как и весь незабываемый ансамбль Пропилеи и Акрополя. И ансамбль — массивный, монументальный — совсем не та легкая, изящная Греция, к которой мы привыкли в театре. Равно как Ареопаг и другие афинские архитектурные ансамбли. И, конечно, театр Диониса и амфитеатр, младший его брат, что находится совсем рядом с Пропилеями. Они колоссальны по размерам, театры под открытым небом Древней Эллады, ведь в них собиралось около 12 тысяч зрителей, а акустика была такая, будто стояли десятки микрофонов — каждый шепот, каждый шелест был слышен в последнем ряду. Какая же звуковая волна раскатывалась по театру, когда все 12 тысяч дружно хохотали в аристофановских комедиях, или же исторгали вопли ужаса в трагедиях Эсхила и Еврипида? Я бродил по Акрополю в солнечные сказочные дни, бродил вокруг в темные южные ночи, и мне казалось, что оживали древние камни, и тысячи тысяч подошв, протертых на этих каменистых дорогах, вновь шуршат многотысячными шагами, и оживают голоса людей, прошедших здесь, на многолюдных празднествах в честь Диониса — их смех, зов, стенания и вопли. И особенно по ночам начинала звучать священная земля Древней Эллады — звучать живыми, теплыми человеческими голосами... Две тысячи лет прошло, а мы тянемся к Древней Элладе, к народу ее, к искусству, вознесшемуся в ранг идеального, мечтаем о нем, обращаемся к нему...
Когда я вернулся в Москву, в первом «Орфее» многое пришлось менять. Никаких портиков, колонн, никаких беломраморных ансамблей — категорически решил я. Желто-серый камень, уходящая вдаль желто-серая дорога, отвесно ниспадающая вертикаль — белые и черные линии, да голубое небо — вот и все.
Больше всего меня мучили обязательные белые колонны — без них как-то в театре и не представляли Древнюю Элладу. Избавившись, наконец, от колоннады и портиков, я стал ощущать, что с меня сняли какое-то ярмо — в спектакле задышалось намного легче.
Гайдновского «Орфея» мы исполняли не целиком. О драматургически рыхлом либретто Карло Франческо Бадини с возмущением писали первые критики этой вещи, обвиняли либретто, да и всю оперу, в статике, в отсутствии действия. А как же сегодняшний зритель воспримет то, что даже два века назад казалось статичным? Да это же смерть спектаклю! И мы решились... На что мы решились, об этом точно сказано в рецензии доктора искусствоведения Е. Б. Долинской. Я сам лучше об этом не расскажу, поэтому приведу обширную цитату из рецензии в журнале «Советская музыка» (1986. № 1):
«В версии Московского музыкального театра звучит не вся партитура «Орфея». Руководители постановки дирижер В. Кожухарь и режиссер И. Шароев (последнему принадлежит и русский текст оперы) по существу создали свой вариант этого многоактного сочинения, которое теперь исполняется в одном действии. Постановщики спектакля декларируют, что именно «номерное» построение этого сочинения позволяет исполнять его, так сказать, избранные страницы, которые дают достаточно полное представление о шедевре оперного творчества Гайдна. Разумеется, такое утверждение в принципе более чем спорно. Но в данном случае компоновка спектакля сделана, на наш взгляд, весьма корректно, убедительно, что, думается, в известной степени позволило избежать драматургической статики, а также запрограммированной либретто вялости действия, замедленного темпоритма.
Такое прочтение «Орфея» не есть попытка внешне осовременить старинную партитуру модной «театральной косметикой». Напротив, здесь сохранен высокий дух гайдновской музыкальной поэтики, благодаря чему открывается возможность поставить «Орфея» в один ряд с выдающимися вокально-инструментальными произведениями мастера — ораториями «Сотворение мира» и «Времена года».
...Своеобразная оперно-ораториальная драматургия «Орфея» раскрыта постановщиками в атмосфере свободного музицирования. Ощущается внимание к фразировке, прихотливому гайдновскому ритму.
...В целом же избранные страницы партитуры Гайдна сложились в достаточно стройную композицию оперы-оратории с очевидной доминантой концертного принципа исполнения».
Признаюсь, нечасто, читая критические соображения на свои спектакли, встретишь такой профессиональный разбор и понимание режиссерского замысла. Ораториальный характер произведения диктовал решение, соответствующее музыкальной драматургии оперы Гайдна. Ораториальный прием близок сценическому построению греческой трагедии, я имею в виду драматургические функции хора, выведенного «за скобки» прямого действия и ставшего скорее «голосом автора». Совпадение это позволило решить функцию хора как статичного, ораториального и вместе с тем хора, знакомого нам по Древней Элладе. Хор, одетый в серые туники, в открытую встал на желто-серые камни и не сходил с мест во время всего спектакля. Но в действии участвовал хор чрезвычайно активно — то вмешиваясь в течение событий и вступая в общение с героями, то комментируя события, то резко и тревожно отвечая на них. Странное дело — внешне вроде бы статика, а на самом деле — динамика необычайная, неизмеримо сильнее, стремительнее и эмоциональнее, чем в иных привычных оперных «массовках» с их расчерченной по тактам беготней. Даже молчащий хор — молчащий, но принимающий участие в происходящем, все время оценивающий его,— был выразителен и своей коллективной эмоциональностью помогал сосредоточить внимание на главных сольных сценах. «Подчеркнуто ораториальный склад гайдновской оперы, как и в греческой трагедии,— писал журнал «Советская музыка», — хор — неизменный участник большинства сцен, комментатор событий, рупор авторских идей, наконец, звуковой фон-барельеф, визуально почти неизменный, но эмоционально подвижный в ораториальной трагедии, хор начинает и завершает спектакль, создавая своего рода «арку-портал».
Строгое, лаконичное решение пластики массовых сцен многое определило в общем рисунке спектакля. Концертность исполнения, верно отмеченная критиками, легла в основу и исполнительской манеры, и режиссерского решения. В центре сцены находилась изящная конструкция, от которой начиналась дорога вверх, в глубь сцены. Сюда и выходили исполнители, и все сольные и дуэтные сцены спектакля разыгрывались на ней. На подиум, как на вершину и центр композиции, были устремлены мизансцены, а на самом подиуме, где шли все основные музыкальные номера, мизансцены выстраивались чрезвычайно скупо — живые скульптурные композиции плавно выливались одна из другой.
Оформление сцены было выстроено чрезвычайно строго и лаконично: серо-желтый камень, белые и черные вертикали, уходящие куда-то ввысь,— вот и вся цветовая гамма. И белая гамма костюмов Орфея, Эвридики, царя Креонта контрастировала с черной гаммой царя Ариодея и персонажей царства теней. Эту цветовую символику оттеняли две монолитные хоровые группы бело-серого цвета. Символические цвета не были статичными, а постоянно находились в контрастном, даже во враждебном взаимодействии один к другому. В этом была своеобразная цветовая драматургия, многое раскрывавшая в таком стилевом решении спектакля, который был избран мной для воплощения древнего мифа об Орфее. И когда в финале спектакля на сцене возникали два параллельных шествия — белого царя Креонта с белой свитой, окружающей бело-золотого Орфея, и встречное движение черного царя Ариодея — предвестника несчастья, сопровождаемого черной свитой,— в самой пластике и в цветовой драматургии рождались смысловые ассоциации и подтексты. Или же когда бело-золотой Орфей, потеряв Эвридику, внезапно оказывался в черном и оставался одиноким на пустынной белой дороге, в начале спектакля ведущей к счастью, ибо то был свадебный путь Орфея и Эвридики, усыпанный цветами, а теперь — бесконечно длинная пустынная дорога, ведущая в огромную черную дыру, дорога к смерти, дорога в безвозвратное царство теней...
Так, соотношением и взаимодействием двух цветов — черного и белого — удалось добиться не только символических обозначений, но гораздо большего: цвет становился активным компонентом действия, вступая в сложнейший конгломерат взаимодействий частей драматургической конструкции спектакля.
В актерском отношении трудности были большие, ибо взятый за основу концертный стиль исполнения не облегчал задачи, а, наоборот, затруднял ее выполнение. Поднятое на подиум и выдвинутое прямо к рампе действие всех сольных эпизодов стало как в кино «на крупном» плане, для чего потребовалась скрупулезная работа с актерами как по внутренней линии, так и по линии мизансценирования. Классическая музыка Гайдна, как выяснилось в процессе репетиций, оказалась настолько хрупкой, что малейшее лишнее движение нарушало плавное и изящное течение музыки. Оперным актерам, привыкшим довольно неэкономно распоряжаться своим телом в пространстве, пришлось пойти на определенное самоограничение, чтобы приблизиться к исполнительскому стилю, выбранному нами для оперы Гайдна. Здесь, при концертной скупости мизансцен, простое движение рукой или же поворот головы приобретали большой смысл, становились событием, воплощенным символом. Таково было общее решение спектакля, и мы добивались с актерами предельной лаконичности в пластике и предельной эмоциональности в пении.
Современное же звучание спектакля было в той гуманистической основе, которая есть в гайдновской партитуре и которая прозвучала в спектакле.
Перед исполнителями роли Орфея была поставлена задача: Орфей — не только служитель муз, искусство которого могло сдвинуть с мест скалы и покорить людей и зверей, нет, он борец против зла, он один на один выходит на бой за счастье, за правду, за любовь — на бой со всем мировым злом, с силами ада, царства теней, со смертью. Это было главным в «художественной жизни человеческого духа» Орфея, и это, мне кажется, удалось добиться с нашими Орфеями — А. Мищевским и В. Таращенко. И продолжением линии Орфея стало сквозное действие нашей Эвридики — вырваться из вечного мрака подземелья, вернуться к свету солнца, к свежему ветру и бесконечному синему небу. Наши Эвридики — Л. Черных, Л. Казарновская и Ю. Абакумовская — сумели добиться и в вокальном, и в актерском исполнении подлинной эмоциональности, трепетности, искренности при строгой внешней форме рисунка роли. К такому решению я стремился — сочетать, казалось бы, несочетаемое, чтобы все эмоции были заключены в строжайшую скульптурную форму концертного исполнения сказания об Орфее на музыку Гайдна...
...И вот — другой Орфей.
Обнаженный нерв XX века — «Орфей» Акутагавы — резкий контраст гайдновскому «Орфею», где все заключено в прозрачную гармонию, стройность и красоту, где духовная цельность героев превалирует над горем и страданием.
«Орфей» Акутагавы — это боль, это гневный крик, предостережение. И когда погибающий от лучевой болезни Орфей атомного века подходит к своей последней черте, за которой черная бездна космоса, он слышит те самые английские слова, которые были произнесены в американском бомбардировщике, вышедшем на цель над Хиросимой и записаны за несколько секунд до взрыва: «10...9...8...7...» Осталось всего несколько секунд до того мига, от которого начался отсчет нового времени — времени атомного ужаса. Этот миг не только унес сотни тысяч жизней, в этот миг в мире родился страх перед атомным кошмаром, с этого момента в корне изменилась психология всего человечества. В наши души вошел страх перед тем, от чего спасения не будет. В адском пламени первой атомной бомбы в один миг были уничтожены надежды людей на то, что оканчивающаяся вторая мировая война — последняя из мировых войн, и сердца людей забились тревогой, рожденной тем мигом, до пришествия которого оставалось несколько секунд: «...6...5...4...»
Это не просто напоминание. Это властное требование. Люди! Остановитесь! Опомнитесь! Не повторяйте Хиросимы!
Взметенный, напряженный до предела Орфей, в мире, где все искалечено, перевернуто, где порваны все традиционные человеческие связи, где взорвано все, что составляло основу человеческой жизни — любовь, добро, дружба, дети, искусство, солнечный свет, Орфей нашего зыбкого сумасшедшего атомного века, взвинтившего нервы всего человечества, приведшего его на грань катастрофы, самоуничтожения, Орфей, вышедший из ада Хиросимы... Таким он пришел в мой спектакль, таким он остался в нем, заново возрождаясь в каждом спектакле. Мой Орфей, часть самого меня, моего больного сердца, моя печаль и надежда. И все больше погружаясь в непривычную зашифрованную музыку Акутагавы, я ощущал: это я, я иду ночными трущобами Хиросимы, прячась от людей, от их пристальных взглядов, я, трижды погибший в эпицентре атомного взрыва и трижды воскресший, чтобы принять в свое сердце все страдания, все несчастья людские. Это я бьюсь с куклуксклановцами, с гестаповцами, со смертью, неумолимо приближающейся, со всем злом и ужасом мира. Я, современный Орфей, проходящий через такие испытания и ужасы, что все испытания за Стиксом другого Орфея — из древнего античного мифа — покажутся наивной сказкой...
Да, это мой двойник-юноша, так и не сдавшийся, хотя он знал, что обречен, Орфей XX века, Орфей, потерявший все — и Эвридику, и свет солнца, и радость, и покой, Орфей, всего лишившийся, кроме одного — высокого полета высокой своей души и жажды борьбы со злом до конца, до последнего дыхания. Все мы, каждый из нас, как бы ни успокаивали себя и своих близких, часто не спим от тревожного ночного зова: что будет с миром, с людьми, с человечеством, с нашими близкими, с детьми нашими? Так беззащитно все это перед ракетами, которые за несколько минут доставят смерть в любую заданную точку. Раньше всегда тлела, искрилась малая надежда — можно исчезнуть, скрыться в горах Кавказа или Памира, уйти в леса, затеряться в сибирской тайге, в забытом всеми якутском наслеге... Теперь не уйдешь никуда — некуда уйти. Все уязвимо, каждый метр на всей Земле. Выхода нет. И если начнется — каждого из нас ждет черная бездонная дыра, которая зияла перед Орфеем из древнего мифа, черная пропасть смерти, царства теней. Человек подходит к финалу, прощание с жизнью — самое тяжелое, что может быть у человека, ибо человек прощается со всем, что дорого ему на Земле.
Это — космос, космический ритм, иные измерения, где черные дыры, откуда возврата нет, где исчезает все живое, материальное, превращаясь в то, чего не существует вовсе,— предел, за которым ничего нет и не будет. Черные дыры космоса...
Жутко думать об этом, но ведь это — не фантазия, не лихорадочный бред, они существуют — гигантские магниты-убийцы...
Могучей космической силе разрушения может противостоять только одно — сила сердца человеческого, его вера в свет и добро. Иначе нельзя. Иначе гибель всему. Миру, человечеству, жизни...
Об этом — «Орфей в Хиросиме». И не только по сюжету, нет. По глубинной сущности своей, по могучему подтексту, заложенному в этом удивительном произведении Ясуси Акутагавы и Кендзабуро Оэ. Оно по сути — о всех нас и про нас.
...В который раз слушаю музыку, изучаю партитуру, смотрю либретто. Поток. Сплошной поток музыки — бурный, неостановимый, приобретающий с каждой минутой все больше эмоциональной силы, нагнетающий динамизм, вносящий на каждом новом витке трагическую окраску и, наконец, на бурных музыкальных волнах приносящий героев к катастрофическому финалу, где внезапно на самой высокой трагической ноте обрывается поток музыки — ни точки, ни восклицательных знаков, только многоточие и исчезающая где-то в космических далях протяжная щемящая нота струнных... И не покидает меня ощущение, что наконец-то я встретился с космическим материалом, где разговор идет о Жизни и Смерти, о Человечестве, о Космосе, о рушащихся Мирах, о взрывающихся Галактиках, неохватных разумом из-за беспредельности своей.
«Черное зеркало» — второе название оперы Акутагавы. Меня это влекло, в нем я чувствовал тайну — и не тайну детектива, не тайну сюжета, а нечто большее — тайну сущности, тайну решения.
«Черное зеркало» — название звало, тянуло магнитом, обещало. И наконец мне стало понятным, что черное зеркало — это тот второй мир, то «Зазеркалье», в котором существует своя жизнь, развивающаяся не по обычной жизненной логике, а скорее по тем особым законам, по которым образуется жизненная среда мифа, чуда, сказа. И та, вторая жизнь в «Зазеркалье» — порождение облученного мозга современного Орфея, лихорадочно цепляющегося за жизнь, пытающегося в своих видениях найти ответ на мучающие его проблемы. И он спешит, торопится, ибо знает — счетчик включен, и остались минуты... Японский Орфей существует как бы в двух измерениях: в реальной жизни, где все зыбко, неустойчиво, быстротечно, и во втором мире, где отсчет идет на десятилетия, они вырастают в века, где к ответу призвана совесть каждого и каждый должен держать ответ на этом всемирном суде совести. Там, в «Зазеркалье», происходит борьба со всем злом мира; там к жизни вызваны фантасмагорические видения Апокалипсиса... Там, в черном зеркале, в ином мире, само время смещено, там нет никаких временных рамок, там временной сдвиг мгновенно вызывает к действию разные эпохи, выстраивая их в единый ряд, подчиняя их неумолимому ритму суда совести... И японский Орфей проходит заново все круги дантова ада, многократно погибая и вновь возрождаясь, чтобы призвать к ответу все зло мира. И слово «Хиросима», каждый раз произносящееся Орфеем с болью и гневом, становится лейтмотивом всего действа. Оно звучит набатным гулом, требует, проклинает, напоминает — Хиросима!!!
Откуда же возникает в спектакле зеркало, как оно входит в систему драматургических связей сценического действия?
Действие оперы начинается ночью, в трущобах Хиросимы. Тусклым светом единственного фонаря освещен небольшой круг, где собираются проститутки. Появляется Юноша, лицо которого скрыто бинтами; зная о своем уродстве, он прячется от всех в темноте трущоб.
Хибакуся — так зовут в Японии жертвы атомной бомбардировки, чудом выжившие в Хиросиме и Нагасаки. Даже по официальным, судя по всему заниженным, сведениям «Хиданкио» (лиги жертв атомной бомбардировки) их около 400 тысяч. Целая армия хибакуся — мучеников атомного кошмара, отчаянно цепляющихся за жизнь многие годы. Как же исковеркана психика у этих несчастных людей, все жизненные устремления и надежды которых связаны только с одним — оттянуть хоть на несколько дней смертельный исход!.. В каком кошмаре живут эти сотни тысяч ни в чем не повинных людей, если знают, что они обречены, что в любой момент лучевая болезнь, которую они носят в себе, одолеет их, и тут бессильна медицина, религия, сила воли — словом, все, что может человек противопоставить таинственной, непознанной силе атомной радиации. Это все несет в своей душе Юноша-хиба-куся...
Колдунья Мико, обратившая внимание на Юношу, уговаривает его взглянуть в зеркало. Юноша потрясен: в зеркале он видит свое лицо таким, каким оно было до атомного ужаса Хиросимы. Тогда он берет у Мико зеркало и внимательно разглядывает себя, чтобы убедиться, что это не мираж. А затем Мико вызывает из зеркала прекрасную Девушку — одетую в плоть мечту Орфея, современную Эвридику. Он не знает, что Девушка послана из страны Смерти, послана за ним, Орфеем, чтобы забрать его из жизни, потому что срок уже настал. Высоко над головой поднимает Юноша колдовское зеркало, словно проецируя его отражение, и теперь мы видим, как вдали, из тумана, плывущего над землей, возникает Девушка в белом, напоминающая Эвридику из первого «Орфея». Звучат далекие голоса хора, и нисходит откуда-то сверху — словно по клочьям тумана — прекрасное видение. А из тумана постепенно проявляются контуры зеркала, увеличенного во сто крат,— отныне зеркало будет занимать огромное пространство сцены, и в нем, за его сферической поверхностью, будет идти вторая жизнь — в «Зазеркалье», в ином измерении, рожденном то ли лихорадочным воображением Орфея, то ли действительно существующим миром, для которого антимир — наша действительность. Там, за магической чертой зеркала, будут действовать, страдать, мучиться, биться с ужасом смерти двойники героев. И отныне все действие пойдет в двух измерениях — параллельно друг другу будут существовать мир и антимир, взаимодействуя, идя рядом, но ни разу не соприкасаясь. Там, в «зазеркалье», будет жить своей второй (а может, и основной) жизнью зримая душа Девушки. В самые трагические минуты в «Зазеркалье» будет возникать Девушка в белом, то уходящая от нас вверх по дороге, печально оглядываясь, то идущая откуда-то издалека, сверху, из туманных далей и постепенно приближающаяся к нам с простертыми руками — Девушка в белом, двойник той Девушки, которая в отчаянье бьется и плачет здесь, в реальном мире. Ее душа, стремящаяся к счастью и радости, и бессильная в этом своем стремлении, обреченная на горе и отчаянье, как и сама Девушка. Так, в двух измерениях — Девушки и ее души — решалось это странное и загадочное музыкальное действо, рожденное фантазией Акутагавы.
Действие в «Зазеркалье» выстроилось в трех планах — эпизоды объемные, трехмерные, построенные на глубинных мизансценах, где действовали живые исполнители; статичные проекции; кинохроника. Проекции и кинохроника внесли в сценическое повествование документальный материал. Это был шаг рискованный. Введение в драматическую ткань спектакля подлинных фотографий и кинохроники Хиросимы неизмеримо поднимало ответственность постановщиков, ибо подобным решением спектакль переводился в план политический, где документальность, подлинность приобретали огромный смысл. Риск в данном случае был, естественно, и в плане эстетическом. Хроникальный материал, введенный как динамический компонент в общую конструкцию спектакля, несет в себе эмоциональный заряд огромной силы, и ввод его в ткань действия либо поможет восприятию спектакля, либо может оказаться губительным для него. Органичность действия, цельность образного строя может быть разрушена введением хроникального материала. Тем более такого сильнодействующего, как хроника Хиросимы. Рядом с этим сильнейшим средством воздействия могли показаться надуманными, бутафорски затянутыми по темпоритму игровые эпизоды в исполнении оперных певцов-актеров. Какой же силой эмоционального воздействия должно быть наполнено актерское исполнение, до какого градуса исступления должны быть доведены исполнители, чтобы иметь полное право — и гражданственное, и художественное — встать в один ряд с документами, запечатлевшими трагедию Хиросимы! Задача тяжелейшая и для режиссера, и для актеров. В процессе действия в «Зазеркалье» неоднократно возникали проекции жертв Хиросимы — искаженные ужасом детские лица в келоидных рубцах, искореженные дома, тени от людей, испепеленных атомным ужасом. Все это сливалось, переплеталось с актерским действием, с музыкой, пением, далекими, глухими, будто из другого мира, голосами мужского хора. Документы, введенные в зрительный ряд, стали не только действенными компонентами спектакля, но и потребовали, да, именно так, потребовали огромной точности, отдачи, сгорания от актеров. И только один-единственный раз в спектакле возникали кинокадры. Это было в самом финале.
...Звучали далекие, отрывистые — словно падали тяжелые камни в глубокую яму — голоса мужского хора, отсчитывающего на английском языке: «10...9...8...7...», в зеркале возникал циферблат — те самые известные всему миру исковерканные часы с навеки остановившимися стрелками, показывающими время атомного взрыва — 8 часов 15 минут... Звучали далекие, глухие голоса хора: «3...2...1...» И когда произносил хор последнюю цифру, зал пронизал исступленный вопль Юноши — вопль ужаса, ужаса предчувствия уничтожения, ужаса неотвратимости атомного кошмара, разъявшего на составные части душу человеческую. И только тогда экран взрывался атомной бомбой, и уплывал в небо облачный гриб, медленно, словно во сне, клубясь и вращаясь. И над всем этим ужасом плыл, бился исступленный крик Юноши. И звучал он теперь как крик Земли. Это Земля, это вся планета наша кричала, звала, требовала: «Не надо! Не надо»!
Ясуси Акутагава:
«Еще в майские дни 1984 года, во время Второго Международного музыкального фестиваля, когда опера впервые прозвучала в Москве, исполнение было замечательным. Сейчас же, по прошествии года с небольшим, я встретился с поистине совершенной трактовкой.
Режиссер, музыкальный руководитель, оркестр и исполнители чутко, внимательно отнеслись к моему сочинению, проделали огромную работу и добились безукоризненного воплощения авторского замысла. Все, что я хотел выразить, реализовано на 100 процентов, и я бесконечно признателен коллективу театра за вдохновенный труд.
Постановка отмечена подлинным драматизмом... который передается публике, вызывая ответную, взволнованную реакцию»[45].
Ловлю себя на том, что пишу вроде о двух разных спектаклях, а вместе с тем это был спектакль единый, целенаправленный, и вовсе не случайно назвал я его «Два Орфея». Спектакль держал единый подтекст, единая мысль о вечной силе духа, о вечной борьбе человека со злом, о вере в то, что добро, побежденное сегодня, все равно возродится в будущих поколениях, в будущих деяниях людей — ибо добро неистребимо и будет жить вечно, пока живет человечество на Земле. Это внутреннее единство цементировало обоих «Орфеев», придавая им единое сквозное действие и сверхзадачу. Зрительные ассоциации «Двух Орфеев» не выстраивались впрямую, «в лоб». Лишь в намеках, в подтексте возникала перекличка двух спектаклей. Построенные на одной конструкции — громадном станке-дороге, «дороге в никуда», — оба спектакля неожиданно напоминали друг друга массовыми мизансценами, выстроенными на этой яркой уходящей дороге, или же трагическим бегом снизу вверх по дороге главных героев, безуспешно пытающихся найти друг друга, или же неумолимым ходом через всю сцену из глубины черных сил зла, несущих горе и смерть...
И только в одном месте, в «Хиросиме», когда на вопрос Девушки из страны Смерти: «Был ли ты счастлив когда-нибудь?» — Юноша отвечал: «Это было так давно, что не знаю,— может, мне показалось...» — на прозрачных, будто замеревших аккордах струнных возникало видение Древней Эллады.
Строгие пропорции Парфенона... Статуя Афины... Скульптуры Праксителя... И вновь колоннады Парфенона, гордо и строго вознесшиеся в голубое небо Эллады...
Вдруг все исчезало, и в зеркале, где только что прошли видения Эллады, возникал резкий луч откуда-то из непонятной глубины, и сквозь этот луч, как в тяжком плывущем кошмаре, проходило перед нами зло мира; и средневековые костры инквизиции, и пылающие костры ку-клукс-клана, и ад гитлеровских лагерей смерти, и расстрелы гестаповцами ни в чем не повинных женщин и детей, и ад Хиросимы... И двойник Девушки из страны Смерти (ее душа) оттуда, из «зазеркалья», ласково зовущий Юношу к себе, в свою страну, и сама Девушка, бьющаяся в ужасе у ног Юноши, уже полюбившая его и понимающая, что ничего изменить нельзя. Ведь она не может спасти любимого, только одно в ее силах — увести его с собой туда, откуда она послана и где их давно ждут: в страну Смерти, или, как называли ее в Древней Элладе, Царство теней...
Но сквозь все горе, несчастья, постигшие не просто личности, а народы, страны, всю Землю, звучала вера в силу и конечную победу добра и справедливости. Так посчастливилось мне выстроить «Двух Орфеев» — трагическое сказание о добре и зле, о всеразрушающей силе ненависти и о созидающей любви...
Т. Хренников:
«Постановщики спектакля нашли точный сценический эквивалент музыке. На сцене разворачивается настоящее действо — фантазия и реальность существуют рядом. Идея постановки обнаженно и пронзительно звучит в детском хоре, словно доносящемся из будущего. Радостно сознавать, что «Орфей в Хиросиме» — выдающийся спектакль по своей значительности и художественным качествам.
...Режиссер И. Шароев убедил зрителей, что он не случайно объединил две оперы в один спектакль. Поставленные рядом, они рождают неожиданные и глубоко волнующие мысли и ассоциации. «Орфей в Хиросиме» невольно приближает к нам далеких героев Эллады, и рассказ о прекрасном певце и юной Эвридике воспринимается более остро и современно, так как соседствует с трагедией наших дней. При всей несхожести музыкального языка композиторов, принадлежащих к различным историческим эпохам, «Орфеев» объединяют подлинный гуманизм, вера в силу любви, победу света и добра...»[46]
«Два Орфея» в Дубровнике
Международный фестиваль искусств в Дубровнике, проводившийся летом 1987 года в 38-й раз, шел под эгидой Орфея. Со всего мира были приглашены музыкальные театры, на сцене которых идут спектакли об Орфее — оперы и балеты. Загребская концертная дирекция, организовавшая фестиваль в Дубровнике, пригласила и наш театр.
Впервые я приехал в Дубровник в феврале. Зима здесь напомнила крымскую: шел тихий дождь, было тепло, и негромко шумело море.
Мы бродили по пустынным узким улочкам старого города, замкнутого в небольшом пространстве серокаменной крепости, поднимающейся прямо из моря, и удивлялись, что каждая улочка, куда бы она ни шла, приводила нас к морю. Море было везде — оно возникало за поворотом старинных башен, среди маленьких средневековых домиков, узкие улицы-лестницы вели к морскому берегу — словом, город моря, свежего ветра, летящих по бирюзовому простору парусов, тихих заливов, врезавшихся в скалистый берег, зеленых островов, окруживших вдающийся в море полуостров Дубровника.
![]() И — старина, XIV век. Двор, словно оранжерея францисканского монастыря, где так неожиданно спокойно и мило: соборы XIV — XV веков, крепко стоящие и сегодня; изящный, стройный Княжий двор; внушительная средневековая крепость с высокими стенами, бастионами, фортами...
И — старина, XIV век. Двор, словно оранжерея францисканского монастыря, где так неожиданно спокойно и мило: соборы XIV — XV веков, крепко стоящие и сегодня; изящный, стройный Княжий двор; внушительная средневековая крепость с высокими стенами, бастионами, фортами...
Над городом вознеслась высокая скала, на которой построен еще в XIV веке могучий форт Ловренач. Мы поднялись туда и были поражены суровым и строгим видом средневекового форта, охраняющего подступы к городу-крепости с моря. В угрюмом, мрачноватом форте был слышен лишь ветер, шумящий в бойницах башен, да отдаленные крики чаек, летящих над волнами плескавшегося где-то далеко внизу моря. Настроение «Гамлета», идеальная природная декорация для шекспировской трагедии... Директора фестиваля, сопровождавшие нас, улыбнулись, когда я им это сказал. Оказывается, летом, во время фестиваля искусств, как стемнеет опаленное солнцем лазурное небо Адриатики, здесь, на площадках древнего форта, играют «Гамлета» югославские актеры.
...Мы стоим на серокаменной стене, высоко вознесшейся над морем, смотрим вдаль, туда, где в бирюзовом мареве Адриатики теряется линия горизонта. Вспомнилось пушкинское:
...Адриатической волной
Повторены его октавы.
Там, в туманной дымке, за зелеными островами, в нескольких часах морского пути — Италия.
Адриатика объединила два берега, и мы сейчас находились где-то на широте между Неаполем и Римом, в бывших владениях Римской империи.
Казалось, нет суетливого нашего сегодня, каждую минуту дергающего нас, подталкивающего, отвлекающего от тихой и мудрой созерцательности, неторопливого и глубокого постижения природы, искусства, истории. Мы так погрузились во время, отдаленное от нас шестью веками, что, помню, с изумлением смотрели на пассажирский «Боинг», заходивший на посадку и делавший вираж над морем.
Место для нашего спектакля я выбрал сразу — небольшую, замкнутую со всех сторон площадь с собором, на паперти которого мы должны были играть «Орфея». Мне очень отчетливо увиделось, как на долгих ступенях лестницы, ведущей в собор, в узких прострельных лучах возникнут Эвридика с Орфеем, светло и радостно поющие о вечной любви и не знающие, что совсем рядом притаилась смерть и до несчастья остались считанные мгновения...
И вот — конец июля. Театр в Дубровнике. Летом город не узнать: разноцветные толпы отдыхающих, пронзительная музыка, шум машин, громкие голоса, на пляжах — бесчисленное множество бронзовых от загара людей. Всё спешит, струится, шумит. Словом, международный курорт, где почти нет югославов, а в основном туристы из Америки, ФРГ, Англии. Неожиданность — много молодежи. Дубровник — курорт фешенебельный, дорогой, и мы ожидали увидеть чинных пожилых туристов, неспешно прогуливающихся по его узеньким древним улочкам. Все оказалось наоборот. Толпы загорелой молодежи в шортах меня озадачили: а нужен ли им наш Орфей — и гайдновский, и в особенности Орфей из кромешного ада Хиросимы? Я был уверен, что наши спектакли пройдут почти незамеченными, при пустой площади (чуть не сказал — пустом зале).
Но вот пришел вечер 30 июля, и к половине десятого, когда совсем стемнело, повалили зрители. Вскоре они заполнили всю площадь — и молодые, и неожиданно появившиеся пожилые, которых днем в городе не видно, очевидно, они прячутся от палящего солнца в гостиницах. Они все шли и шли. Странное это было шествие людей в шортах и чрезвычайно легких летних платьях, с лицами то коричневыми от загара, то обожженными солнцем до неправдоподобно красно-свекольного цвета.
В Дубровнике мы играли «Орфеев», разделив их на два вечера. В первый вечер шел гайдновский «Орфей», которому предшествовало концертное отделение. Оркестр театра исполнял симфонию Гайдна, что явилось отличной прелюдией перед спектаклем, создавая верное настроение, обусловленное единым стилем и эстетикой гайдновского творчества. А затем на паперти собора разыгралась древняя легенда об Орфее, и я не узнал собственного спектакля — настолько неожиданно было то, что все мы увидели. Дни репетиций, предшествовавшие ему, были потрачены на создание нового варианта спектакля, сделанного с учетом необычной площадки под открытым небом. Здесь мы были лишены всей театральной машинерии, кулис, занавеса, станков. У нас была только парадная стена церкви, длинные ступени и свет. Когда снизу, с паперти подсветили стену собора, и скульптуры, колонны, ниши, фронтон, барельеф, портики приобрели на фоне звездного неба какую-то трудно объяснимую воздушность и легкость, то показалось, что вся эта струящаяся конструкция, сотканная из света и воздуха, вот-вот оторвется от земли и уплывет в небо, к близко сверкающим звездам. В этой воздушно-световой среде зазвучала возвышенная, строгая, мудрая и печальная музыка Гайдна, и в актерах проснулось нечто — то подсознательное, о котором так точно сказал Станиславский и которое зачастую глубоко и сладко дремлет у оперных певцов. Но в этот раз как они пели и играли! Я не люблю слово «вдохновение», в нем есть нечто выспренное. Но именно оно приходило на ум во время гайдновского «Орфея» в Дубровнике. Л. Черных, В. Таращенко, В. Свистов, Л. Болдин, В. Щербинина — все играли и пели так, будто впервые, отдаваясь целиком гениальному гайдновскому творению, вкладывая сердце в каждую сцену, в каждую фразу.
Как-то по-особому зазвучал под южным звездным небом древний миф об Орфее, рожденный совсем недалеко от того места, где шел спектакль, под таким же южным небом, у такого же теплого бирюзового моря Эллады. Необычную обстановку дополняли стрижи, встревоженно носившиеся в лучах театральных прожекторов и громко певшие на протяжении всего спектакля (оркестранты уверяли после спектакля, что стрижи оказались на редкость музыкальными — пели прямо в тональность).
Характерная деталь — во время спектакля зрительный зал не шелохнулся, ни разу не зааплодировал. Зато потом, после спектакля,— овации. Стоя с актерами на паперти перед горячо аплодирующей площадью и улыбаясь зрителям, я с досадой думал: как печально, что любой спектакль после премьеры постепенно и незаметно теряет праздничную атмосферу и становится будничным, обычным для исполнителей, а значит, и для зрителей. И нужны экстремальные обстоятельства, что-то из ряда вон выходящее, чтобы вернуть спектаклю ощущение праздника, без которого нет и не может быть театра!
И вот — «Орфей» японский. Для «Орфея в Хиросиме» я выбрал другое место: на той же площади, но только в противоположном ее углу. Меня привлекала древняя, выложенная из того же серого ноздреватого камня, что и крепостные башни Дубровника, стена с какими-то странными отверстиями — то ли бойницами, то ли старинными узкими окнами, с проломом в центре стены, ведущим в глубь темного, зажатого домами двора. Эта стена давала ощущение вечности, ощущение древности, и каким-то тайным образом зрительно связывала действие японской оперы, происходящее в наши дни, с древним мифом об Орфее. На фоне серой каменной плоскости и происходило действие спектакля. А играть А. Лошаку, Л. Захаренко и А. Вознесенской пришлось на торцах, которыми уложена площадь, буквально в метре от зрителей. Я сидел среди них и пытался понять их реакцию на спектакль, она была, в общем, непредсказуемой — что им, курортникам, туристам, этой развлекающейся здесь, у прекрасного теплого моря, толпе до трагических проблем века! И так ли уж нужно им напоминание об атомном кошмаре, что затаился рядом с нами? Признаюсь, я был готов к шуму, разговорам в зале, к тому, что с середины спектакля наш курортный зритель потопает к выходу, тем более, что спектакль шел около 12 часов ночи. Но зритель сидел притихший. И, как в гайдновском «Орфее», ни одного хлопка в продолжение всего спектакля. Наши артисты оказались в очень непривычной для оперных певцов обстановке: они играли и пели, что говорится, на носу у зрителя. И надо отдать им должное, мгновенно ощутили «крупный план», на который их вывели «производственные условия», и стали играть чрезвычайно точно и скупо, приближаясь скорей к кинематографической манере исполнения, чем к обычной оперной. И вот результат. Финал спектакля — взрыв атомной бомбы и мучительный, протяжный крик юноши. И затем — тишина, повисшая над темной средневековой площадью. Площадь сидела тихо и думала. Думала молча, напряженно. Потом кто-то спохватился, зааплодировал, его поддержали, и дальше были дружные аплодисменты, вызовы, словом, настоящий успех.
Вот так закончилось наше напоминание беззаботным, загорелым туристам-курортникам из разных частей света о тревоге, которая неусыпно живет в человечестве, о беде, которую можно предотвратить, только постоянно помня о ней.
Глава II. Комическая опера
Преамбула
Страничка истории. Традиционная для классической комической оперы форма — чередование музыкальных номеров с разговорными интермедиями, их органическая связь, их контрастное сопоставление, сопоставление противоположностей, дающее в конечном результате ощущение единого целого,— в этом заключена диалектичная сущность жанра комической оперы.
Подобная форма слагалась веками как некое противопоставление opera seria (большой опере).
Исследователи отмечают, что еще в XIII веке во Франции появился первенец жанра, вернее, его предшественник — сочинение «Игра о Робене и Марион» трубадура из Арраса Адама де ля Аля.
Драматургический каркас этой предтечи комической оперы представлял собой чередование разговорных сцен с песенками и танцами. Однако зарождение жанра следует отнести к XVII — XVIII векам. Истоки жанра народные, фольклорные, идущие от карнавальных зрелищ, от площадного театра. Во Франции — в шуме и площадном веселье ярмарочного зрелища, в Италии — в карнавальном празднестве, в комедии дель арте, плоть от плоти площадного карнавального празднества. Истоки жанра демократичны, как демократичен и сам жанр. Таким он родился во Франции и Италии, таким он пришел в Россию, развившись в XVIII веке и приобретя свои, чисто российские черты.
Комическая опера всегда была реалистична как по тематике, так и по воплощению. Характерным являлось соединение в нерасторжимый драматургический сплав музыки и разговорных эпизодов.
Небезынтересно вспомнить, что вопросы драматургического единства разнородных компонентов волновали еще Жан-Жака Руссо: «Определить степень, до которой разговорная речь может петь, а музыка говорить,— это большая и увлекательная задача...
...Применение музыки в драме надо разнообразить, выдвигая на первое место то разговорную интонацию и поэтический ритм, то музыку...»[47]
И еще одна мысль Ж.-Ж. Руссо, определяющая особенности жанра комической оперы: «Род драмы, где слова и музыка звучат не вместе, а по очереди, и устная фраза как бы возвещается и подготавливается музыкальной фразой»[48].
Как видим, еще Руссо обратил внимание на проблему, которая и сейчас является камнем преткновения как для авторов, так и для постановщиков и актеров: взаимодействие музыки и слова, органическое врастание музыкальных и разговорных эпизодов один в другой, их конфликтное сосуществование, взаимно дополняющее друг друга. Проблема, выявленная еще Ж.-Ж. Руссо, жива и по сей день.
В сегодняшнем своем существовании, как мы знаем из практики музыкального театра, комическая опера сохранила традиционную демократичную форму. Она выкристаллизовалась в своеобразное музыкальное действо, представляющее собой сплав традиционной формы с современным музыкальным языком, ощущением темпоритма действия, вобравшего в себя достижения как драматургии XX века, так и возможности киномонтажа — одного из действеннейших методов создания современной драматургической конструкции.
И еще одно качество, необходимое для создания комической оперы, которое завещали классики,— мелодическое богатство музыкального языка. И опять же сошлюсь на Руссо: «Музыка трогает сердце только благодаря очарованию мелодии»[49]. Вот это условие — «очарование мелодии» — является обязательным для комической оперы.
Однако необходимо напомнить, что сочетание музыки и разговорных сцен — обязательное условие и для оперетты. Думается, отличие комической оперы от оперетты, помимо целого ряда специфических черт, еще и в том, что в комической опере налицо явный приоритет музыки над всеми другими компонентами театрального действия, и музыка является главной действенной пружиной жанра, его определяющей и направляющей силой.
В числе задач, стоящих перед режиссурой и исполнителями при работе над комической оперой,— единство стиля исполнения музыкальных и разговорных эпизодов. Как добиться, чтобы музыкальный эпизод естественно выливался из разговорного и чтобы в свою очередь разговорный стал естественным продолжением музыкального?
Секрет здесь в темпоритме, едином как для музыкального куска, так и для разговорного эпизода. Разговорные эпизоды должны служить как бы прелюдией к музыкальному куску, а музыкальный кусок — органической кульминацией разговорного эпизода. Эта взаимосвязь оставляет примат за музыкой.
Музыка диктует направление драматургического развития действия и его темпоритм, определяя темпоритм разговорных эпизодов, а не наоборот. Примат музыки определяет весь стиль и режиссерского решения, и актерского исполнения не только музыкальных кусков, но и впрямую связанных с ними разговорных эпизодов. И эта исходная позиция должна стать законом для режиссера, для его отношения к музыкальному материалу и, следовательно, для его решения как всего спектакля в целом, так и каждого эпизода в отдельности. И еще одно обстоятельство, чрезвычайно важное: разговорный эпизод — словно связующее звено общей цепи музыкальной драматургии, прокладка, промежутки между музыкальными эпизодами, а никак не самодовлеющий компонент! Это элементарное правило обязаны помнить мы, режиссеры, приступающие к постановке комической оперы. В противном случае музыка будет жить в своем измерении, диктуемом законами музыкальной драматургии, а разговорные сцены — в своем, диктуемом законами драматического театра. Эти параллельно идущие две самостоятельные линии никогда не пересекутся. В таком случае режиссер поставит два самостоятельных спектакля на одну и ту же тему — музыкальный и драматический. Но слияние их никогда не произойдет, ибо жить они будут по правилам, отличным одно от другого.
Выход здесь один — выстроить и музыкальные, и разговорные сцены по законам музыкальной драматургии. В этом единственно возможном решении каждый разговорный эпизод будет продолжать предыдущий музыкальный по характеру и темпоритму музыки и вместе с тем подготавливать следующий музыкальный эпизод. Я имею в виду темпоритм эпизода и, естественно, тот эмоциональный заряд, который определяет стиль и характер актерского исполнения. Эмоциональный «градус» и темпоритм — суть стороны одного и того же явления, диктуемые музыкой, ее характером. Единство темпоритма и эмоционального начала, музыкальных и разговорных эпизодов и создает органический сплав музыкального действия, который становится законом создания комической оперы и нарушение которого приведет к катастрофическим последствиям. В правоте этого положения я убеждался на практике не раз и всегда стремился к достижению единства стиля и в музыкальных кусках, и в разговорных сценах. Если не выстраивалось единство действия в различных кусках, приходилось менять актерские задачи, где надо, активизировать исполнителей или же, напротив, «приглушать» их, если в этом была необходимость по действию. Но, повторяю, мерилом, диктующим все, была музыка. Она определяет все — даже (это, может, покажется странным) эпизоды, где она не звучит. Она подразумевается, она все равно присутствует в сцене, ибо всегда есть особое ощущение — я его называю «предчувствием музыки», ибо она вот-вот зазвучит, ворвется в действие, подчиняя себе все компоненты. Вот это предощущение, предчувствие музыки — драгоценное качество для нашей профессии.
Т. Н. Хренников. «Доротея». «Золотой теленок»
Мне хочется рассказать о том, как родились две комические оперы Т. Н. Хренникова — «Доротея» и «Золотой теленок». Но, прежде чем начать разговор об этих операх, мы должны вернуться на 50 лет назад, ибо там, теперь уже в истории музыкального театра, истоки сегодняшних спектаклей.
Итак, Московский музыкальный полвека назад. Вл. И. Немирович-Данченко, услышав Первую симфонию 23-летнего студента Московской консерватории Тихона Хренникова, отметив «удивительную свежесть его мелодического дара», произносит пророческие слова: «необходимо увлечь Хренникова на совместную работу с театром».
Мы должны и сегодня отдать должное старому мудрецу, великому режиссеру, его прозорливости и чуткости в угадывании талантов: ведь именно он первым почуял в молодом композиторе будущего музыкального драматурга, именно он зажег его идеей создания советской оперы.
Немирович-Данченко ввел в театр Тихона Николаевича, в самую сердцевину его, и постепенно сложная жизнь театра, скрытая от посторонних глаз, стала для композитора близкой и понятной, и он стал для Московского музыкального театра что называется «своим» на многие годы.

На репетиции оперы
Т. Хренникова «Доротея»
с Л. Болдиным и А. Лошаком

На репетиции спектакля «Золотой теленок» с В. Канделаки

Репетиция сцены в мужском монастыре из оперы «Доротея»

Прослушивание оперы Т. Хренникова «Золотой теленок» в Московском академическом музыкальном театре.

На премьере оперы «Доротея».
Слева направо: Э. Саркисян, режиссер А. Елизаров, Т. Хренников,
И. Шароев, Л. Казарновская, В. Канделаки

На премьере оперы «Золотой теленок»

Сцена из оперы «Золотой теленок». Зося Синицкая — Л. Казарновская, Остап Бендер — А. Лошак

На репетиции оперы «Золотой теленок».
О. Бендер — А. Лошак, Балаганов — В. Свистов

Сцена из оперы «Золотой теленок».
Козлевич — Я. Кратов, Паниковский — В. Войнаровский, Остап Бендер — А. Лошак, Пацан — А. Горнизов
Я уверен: если бы и не произошла эта знаменательная встреча, Хренников все равно пришел бы в оперу. Тонкое ощущение театра, театрального действия, музыкальной драматургии неизбежно привели бы его в музыкальный театр. Но значительным представляется, что в молодые годы композитор прошел университеты оперного искусства под руководством Немировича-Данченко. «Я получил в этой работе знания и опыт, равные целой творческой жизни»,— вспоминал композитор[50].
Я не буду повторять то, что общеизвестно. Мне хочется обратить внимание на другое: новая опера рождалась в стенах театра. Вот этот аспект очень важен для нас; их множество — путей создания оперы.
И один из наиболее плодотворных — тесное сотрудничество; нет, не точно говорю, точнее, содружество, сотворчество автора с театром. Пример оперы «В бурю» подтверждает это положение чрезвычайно убедительно.
Благословенно будет имя Немировича-Данченко за то, что он мудро создал верную атмосферу вокруг композитора — дружескую, доверительную, откровенную (без этого ни о каком творчестве и речи быть не может, тем более, когда это касается театра). Великий режиссер с высоты огромного таланта и опыта точно предугадал, что нужно для строительства театра, он видел пути, ведущие музыкальный театр из прошлого в будущее, и знал, кто ему нужен как соратник, сподвижник, кто встанет рядом с ним и примет на себя ответственность перед нашим искусством.
Сейчас, когда опера «В бурю» вошла в золотой фонд советского музыкального искусства, многое в ее создании кажется простым и само собой разумеющимся. Но вернемся к 30-м годам, времени создания этого произведения.
Когда Хренников и Немирович-Данченко приступили к работе над оперой, в активе советского оперного театра была, по существу, одна опера, достойно развивающая революционную тему,— «Тихий Дон» И. И. Дзержинского. Многое еще предстояло найти на трудном пути поиска и освоения нового.
Хренников и Немирович-Данченко шли неизведанными, нетронутыми путями. В процессе работы постепенно вырабатывалась определенная платформа, которая впоследствии была сформулирована самим Тихоном Николаевичем: «В своем творчестве я шел главным образом путями музыкальной лирики. После долгих раздумий у меня появилось твердое убеждение, что наша советская героика и лирика не исключают друг друга, а выразительно и плодотворно сочетаются... Вспомним гениальное «Слово о полку Игореве», где тончайшая поэтическая лирика служит блестящим средством выражения героики»[51].
Изучая творчество Тихона Николаевича Хренникова еще в период подготовки к документальным фильмам, посвященным ему, я обратил внимание на эту исповедальную фразу композитора. На этом программном утверждении необходимо остановиться. Собственно, здесь уже точно обозначены основы не только музыкального языка будущей оперы, но и всего дальнейшего оперного творчества композитора, идущего «путями музыкальной лирики». Это качество потом неоднократно проявлялось в операх Хренникова. Признание самого композитора открывает многое в том непознанном никакими учеными мужами феномене, именуемом «психологией творчества». Да, поистине, «пути музыкальной лирики» — ключ к оперным произведениям Тихона Николаевича.
А «убеждение, что наша советская героика и лирика не исключают друг друга, а выразительно и плодотворно сочетаются», было подтверждено созданием опер «В бурю», «Мать», где композитором убедительно решена героическая революционная тема средствами музыкальной лирики, отчего далекие от нас по времени события стали волнующими, глубоко эмоциональными, ибо музыка Хренникова была направлена к сердцам людей. В органический сплав слились воедино лирика и героика, утверждая по существу вид оперного произведения на революционную тематику.
Негладко и непросто утверждалось новое на оперной сцене. Были нападки на произведение Хренникова и на спектакль Немировича-Данченко. Странно сегодня читать эту критику, когда на сцене театра вот уже почти полвека с успехом идет опера «В бурю», увидевшая свет рампы на сценах многих театров нашей страны и за рубежом.
Но факты есть факты, их из истории театра не выкинешь. И Немировичу-Данченко, и Хренникову нужны были воля и вера в правильность пути, чтобы отстоять свои позиции. И бой они выиграли.
И там, где есть единство взглядов, где возникло творческое содружество автора и театра, рождаются выдающиеся по своим художественным достоинствам произведения. В драматическом театре есть классические примеры — А. Н. Островский и Малый театр, А. П. Чехов и Художественный театр.
В современном оперном театре таких примеров немного, но они есть. Один из них — многолетнее счастливое содружество Т. Н. Хренникова с Московским музыкальным театром имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Коллектив Московского музыкального театра в 50-е годы осуществил постановку новой оперы Т. Хренникова «Фрол Скобеев» («Безродный зять»). Замечательная комическая опера рождалась в тесном содружестве театра с композитором. Но все то, о чем написал, знаю в основном из рассказов самого Тихона Николаевича, Н. Ф. Кемарской, В. А. Канделаки, П. А. Маркова, П. С. Златогорова. Дальше мое повествование будет опираться на собственные ощущения, собственный опыт, которые мне дала совместная работа с Т. Н. Хренниковым.
*
...Я был десятилетним мальчишкой, когда услышал имя и фамилию композитора. Это было в первый военный год, на экраны вышел фильм «Свинарка и пастух», и его мелодии разлетелись по стране. А «Песню о Москве» просто пели все. Шла война, к Москве с надеждой обращались все взоры, и мы в далеком Баку пели «Песню о Москве» с верой в то, что война скоро кончится и могучий голос Левитана, который с нетерпением ежедневно ждали, возвестит о победе...
Первая заочная встреча с его творчеством состоялась еще на учебной скамье, в ГИТИСе. На кафедре оперной режиссуры обязательной была работа над оперными произведениями русской классики и советских композиторов. Мы сами, студенты-режиссеры, участвовали друг у друга в отрывках как исполнители, пели своими «режиссерскими» голосами сложные партии — мне пришлось быть даже Самозванцем в «Борисе Годунове» Мусоргского. Но особенно запомнилась одна из наших работ — отрывки из оперы Т. Хренникова «В бурю».
Я исполнял роль Леньки и до сих пор вспоминаю, как выстругивал перочинным ножом из палочки чижика и самозабвенно пел: «Из-за леса светится половина месяца». Мой учитель Баратов в Хренникова был влюблен, «В бурю» была одна из самых любимых его опер, он много и образно рассказывал о ней, и мы, студенты, с увлечением работали над фрагментами оперы. Нас, совсем еще молодых, увлекла музыка Тихона Николаевича — удивительно мелодичная, яркая, темпераментная; привлекало нас и точное ощущение композитором музыкального действия. Разбирая под руководством профессора Е. А. Акулова музыкальную драматургию оперы, мы постигали «секреты» музыкального театра Т. Н. Хренникова. И не мог я даже предположить, что придет время, когда эти «секреты» я буду расшифровывать в сценическом воплощении совместно с самим автором!
Е. А. Акулов был первым дирижером оперы «В бурю» и вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко принимал непосредственное участие в ее создании. Вот так, со студенческой скамьи, благодаря Л. В. Баратову и Е. А. Акулову приобщался я к творчеству Т. Н. Хренникова — и как режиссер, и даже как исполнитель. И никто — ни мои учителя, ни товарищи, ни я сам — не могли предположить, что уже тогда, в конце 40-х годов, заложен был фундамент моих будущих работ над операми Тихона Николаевича. Я уверен, что истоки моих спектаклей «Доротея» и «Золотой теленок» — там, в скромных студенческих опытах.
В начале 50-х годов, когда я пришел на практику к Л. В. Баратову в Московский музыкальный театр, где он к тому времени был главным режиссером, там шло возобновление оперы «В бурю» в классической постановке Немировича-Данченко. Я бывал на многих сценических репетициях, видел в зрительном зале Тихона Николаевича, с которым не был еще знаком.
А через два года я уже работал в Большом театре СССР. Охлопков готовился к постановке новой оперы Хренникова «Мать», и Тихон Николаевич сам показывал актерам оперу: играл, пел, да как пел! Задушевно, искренне, трогательно, будущие исполнители не могли удержать слез на этой волнующей встрече коллектива с композитором. Я впервые тогда слушал «живого Хренникова», и он поразил меня этим, я бы сказал, удивительным свойством души — мгновенно, безо всякой подготовки находить путь к сердцам людей. Помню, как, растроганные, сидели тогдашние звезды Большого театра...
Затем памятная для меня постановка Охлопковым на сцене Большого театра оперы «Мать», где из лиричнейшей музыки оперы, полной искренности и задушевности, как-то неожиданно получился помпезный, торжественный спектакль.
«Спектакль-монумент», «спектакль-памятник» — так определил его Охлопков на встрече с труппой. Помню это хорошо, сам слышал его доклад. Думаю, что к этому решению выдающийся драматический режиссер пришел от изначально неверного ощущения музыки Хренникова. У Охлопкова было в душе свое, он мечтал об огромных масштабных спектаклях, его не случайно тянуло к массовым зрелищам, к постановкам на площадях (он и в зрелые годы постоянно возвращался к идеям своей юности, к спектаклям театра под открытым небом, к «Мистерии-буфф», к театру Диониса — вспомните хотя бы его «Медею» в Концертном зале имени П. И. Чайковского с симфоническим оркестром и капеллой под руководством А. Юрлова). Скорее всего, он увлекся огромными размерами сцены Большого театра, величественностью и парадностью зрительного зала, неограниченными возможностями массовых сцен, возможностями, которые мог предоставить один театр в стране — Большой, фантазия режиссера разыгралась, а ей ведь удержу не было! И вот родился помпезный оперный спектакль, в котором, как мне тогда казалось, не очень уютно было проникновенно-лирической музыке Хренникова.
Но вернемся к нашей встрече с Тихоном Николаевичем, ибо я не ставил себе задачи анализировать оперную постановку замечательного советского драматического режиссера. И тогда, в начале 50-х годов, при постановке оперы «Мать» мы еще не общались с Тихоном Николаевичем, хотя чуть ли не ежедневно встречались в театре. Но Большой — такой сложный и громоздкий организм, где действуют центробежные силы: столько народа одновременно устремлено в разные стороны, что там можно годами искать друг друга и не найти... Тем более, что скромный молодой режиссер ГАБТа тогда вряд ли мог заинтересовать выдающегося композитора. Вот так целый ряд лет ходил я рядом с Тихоном Николаевичем, слышал и видел его работы, но пути не перекрещивались.
Только в 1957 году мы познакомились. Познакомил нас Г. И. Литинский, один из консерваторских педагогов Тихона Николаевича. И произошло это в зрительном зале Московского музыкального театра, на премьере первой якутской оперы «Ньургун-Боотур», одним из авторов которой был Генрих Ильич, а я — постановщиком.
Но в совместной работе с Хренниковым встретились мы через много лет — в 1972 году, когда я снял свой первый фильм о его творчестве.
Теперь я непосредственно перехожу к «Доротее» и «Золотому теленку». Традиции дружбы Т. Н. Хренникова с Московским музыкальным театром имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко были продолжены. Взаимоотношения театра с Тихоном Николаевичем при создании новых спектаклей развивались в том же русле, как и прежде. Результатом нашей дружной совместной работы стал спектакль «Доротея», где в полную силу зазвучала жизнерадостная, искрящаяся музыка, прославляющая любовь, дружбу, прекрасные человеческие чувства.
О «Доротее»
Это была третья встреча Тихона Николаевича с Московским музыкальным театром, и «Доротею» он специально написал для него.
...В мае 1982 года позвонил Тихон Николаевич, сказал, что хочет показать свою новую оперу по «Дуэнье» Шеридана. И вот весенним вечером я приехал на улицу Неждановой в правление Союза композиторов СССР. Композитор сам играл и пел новое свое произведение, успевал попутно рассказывать, что происходит в это время на сцене. Точнее, он рассказывал о своем режиссерском видении той или иной сцены, и, надо сказать, видении очень конкретном и образном.
Поразило мелодическое богатство. Мелодии, рождавшиеся в фантазии Тихона Николаевича Хренникова, были всегда рельефны, объемны и пластичны. Потому легко запоминающиеся и легко поющиеся. Оставалось ощущение какого-то бесконечно льющегося искрометного мелодического потока, и этот поток увлекал, властно звал за собой...
Удивительная черта Тихона Николаевича: он не только очень точно слышит действие в музыке, он еще и видит его. Думаю, здесь сказывается, помимо природного дара, и его огромный опыт работы в театре и в кино. Когда Тихон Николаевич показывал первый вариант «Доротеи» (тогда она была еще «Дуэньей»), я не только сосредоточенно слушал его, но и всматривался в его лицо. И передо мной возникали один за другим образы будущего спектакля — и Доротея, и Антонио с Инессой, и старый плут Мендосо, залихватски поющий выходной монолог о невероятных своих любовных победах (мнимых, судя по всему). Я всегда очень внимательно отношусь к авторскому исполнению. Опыт убедил меня, что авторы — даже самые талантливые — не много могут рассказать о своем произведении, а вот в показе, в их исполнении вдруг проявляются такие глубины и неожиданности, которые зачастую могут стать ключом к общему режиссерскому решению. В «Доротее» талант композитора сверкнул новыми гранями. Меня сначала удивила, а затем и обрадовала (хотя я не сразу понял причину) некая лукавинка, с которой Тихон Николаевич исполнял новое свое произведение. Он лукавил, шутил с каким-то ироничным прищуром — и в музыке, и в исполнении; этот «второй план» придавал какую-то милую тайну, некую загадочность и вместе с тем ощущение веселья, жизнерадостности и доброй улыбчивости.
И рядом с этим веселым озорством — любовные сцены, наполненные проникновенной лирикой — лирикой, доминантой которой было доброе отношение к жизни, к людям. Но — и это я тоже отметил про себя — все любовные сцены были окутаны какой-то легкой дымкой юмора, и они, при всей лирической эмоциональности, были вместе с тем сделаны тоже с улыбкой. Это решение всей оперы в комическом ключе давало ощущение цельности, единства различных ее звеньев.
Напиши Тихон Николаевич любовную линию (а она превалирует в «Доротее»), что говорится, «всерьез», в традициях «большой оперы», и все рассыпалось бы на составные части, ибо любовные сцены выпадали бы из общего характера и стиля произведения.
Добрая улыбка, которой окрашены лирические сцены «Доротеи», цементировала музыкальную драматургию, соединяя ее в сплав насыщенного, концентрированного действия.
Для меня как постановщика спектакля прослушивание «Доротеи» в авторском исполнении представляло ценность большую. Хорошо, что я впервые услышал «Доротею», так сказать, из первых рук.
Тихон Николаевич закрыл последнюю страницу своего произведения и повернулся к нам — усталый, заново переживший все перипетии, через которые прошли его герои. Ощущение было радостным. Я уверовал, что получаю для постановки отличный материал в том жанре, в котором у нас почти не пишут. Комическая опера — редкое явление, и тем она дороже и для исполнителей, и для зрителей.
Но было ясно — такой спектакль просто не дастся. И главный вопрос: в каком ключе решать его, чтобы он стал таким же захватывающим, каким было сегодняшнее исполнение «Доротеи» Тихоном Николаевичем? А сегодня было ощущение праздничного веселья, радости. Как прийти к этому? Да и суждено ли, удастся ли прийти?
В июне в малом фойе Московского музыкального театра собрались все, кто проявил интерес к новой работе Тихона Николаевича,— артисты театра, дирижеры, режиссеры, музыкальные критики, журналисты. Была и киносъемочная группа: я снимал этот эпизод для будущего фильма о творчестве Т. Н. Хренникова.
Тихон Николаевич сел к роялю, сказал несколько вступительных фраз, заиграл и запел. И опять повторилось чудо творческого гипноза: буквально через несколько минут все оказались под обаянием музыки, которая объединила всех, собравшихся в малом фойе.
...А через десять месяцев открылся занавес на премьере «Доротеи» в Московском музыкальном театре.
А. Пахмутова:
«Не всякая театральная премьера подобна празднику. Но на спектакле «Доротея» его радостная атмосфера возникает с первых же тактов музыки Тихона Хренникова.
...Достаточно услышать несколько тактов, и вы догадываетесь, кто автор музыки. А еще через несколько минут вы взяты ею в плен.
Режиссер И. Шароев осуществил постановку весело, с выдумкой и размахом. Однако в ней нет ничего лишнего. Постановщик точно услышал партитуру и все подчинил ее воплощению. Созвучно музыке и яркое оформление художника А. Лушина. Музыкальная и сценическая стороны спектакля связаны единой мыслью, единым творческим решением, и, думается, в этом органичном сплаве скрыт успех «Доротеи».
...Музыкальный театр подготовил «Доротею» к юбилею композитора. Хочется сказать, что подарок получился талантливым»[52].
Я вспоминаю, это был долгий путь, в котором далеко не все шло гладко (но об этом немного позже), как по хорошо обструганной доске, были здесь и зазубрины, и занозы частенько попадали под ногти, и много разного случалось в пути. Но в результате была радость. Потому что состоялось рождение нового.
О «Доротее», как и о «Золотом теленке», много написано статей и рецензий, поэтому я часто буду прибегать к высказываниям в центральной прессе, ибо это более объективные свидетельства, чем мои личные впечатления.
Давайте устроим нечто вроде популярного ныне «круглого стола». Пригласим за воображаемый «круглый стол» крупных музыкальных деятелей — композиторов, дирижеров, критиков. И прислушаемся к их мнению, тем более, что речь пойдет о сложнейшей проблеме современной музыки — создании комической оперы, о путях развития оперного театра. В разговор вступают талантливые мастера, и их мысли, высказанные в связи с проблемами, поднимаемыми в данной книге, представляют несомненный интерес.
Ю. Левитин:
«Когда я услышал, что Т. Хренников заканчивает комическую оперу по пьесе Р. Шеридана «Дуэнья», я, не скрою, удивился. Писать сочинение после известной, прекрасной оперы С. Прокофьева «Обручение в монастыре» на тот же сюжет и в том же жанре?!
И что же? Я был не прав. По-видимому, таланту подвластно все. Я поразился, насколько по-своему, оригинально, в присущей Т. Хренникову яркой, театральной манере сумел он написать самостоятельное, новое, совсем не похожее на оперу С. Прокофьева произведение!»[53]
Музыка комической оперы Хренникова озарена доброй ироничной улыбкой, искренней и обаятельной, за которой ясно прочитывается человеческая и творческая позиция автора — любовь к людям, оптимистическое отношение к жизни. Однако в результате такой вот смысловой переакцентировки музыкальная драматургия «Доротеи» таит в себе некое, я бы сказал, коварство. В ней отсутствуют отрицательные персонажи — ибо они исчезли при переакцентировке образов Мендосо и Доротеи. И вот в результате все конфликты, несущие, казалось бы, остроту драматической ситуации, на самом деле таковыми не являются, ибо мы понимаем, что благополучное разрешение их задано композитором, и об этом все время нам напоминает музыка, и напоминает неизмеримо убедительнее всех наших домыслов. И парадоксально, для постановщика такое авторское решение не облегчает дела, а затрудняет, потому что ему необходимо решить, в чем же, собственно, заключена драматургическая пружина спектакля. У Хренникова основой стала любовная тема — она шла через всю оперу, не только объединяя многочисленные эпизоды, но и окрашивая их в определенные тона, убедительно утверждая силу и победу счастливой и верной любви, овладевшей сердцами юных героев. И поэтому эмоциональная тональность всего произведения приобрела радостную мажорность.
Композитор переакцентировал целый ряд драматургических компонентов пьесы, ибо его концепция в корне отличалась от всех предыдущих, включая и музыкальные решения.
Главной переакцентировке подверглась сама дуэнья — Доротея.
Из сварливой склочницы, алчно и хищно пытающейся ухватить свой кусок в жизни, Доротея, по версии Хренникова, превратилась в одинокую, долго ожидающую счастья женщину, невезучую и неудачливую, но не отчаявшуюся и готовую отдать сердце и свою жизнь любимому человеку. Она приобрела новые черты характера, и такое решение центрального образа изменило смысловую сторону шеридановской комедии, придав ей добрую иронию и улыбку.
Переакцентировке подвергся и образ Мендосо: из скупого торговца рыбой, наделенного многими отрицательными чертами, он стал стареющим, добродушным хвастуном, увлекающимся, наивным в делах любовных и по-своему обаятельным и смешным.
Как помните, у Шеридана и у Прокофьева Доротея и Мендосо лишены привлекательных черт, в драматургической конструкции как в первоисточнике, так и в опере «Обручение в монастыре» они, по существу, являются силой, противоборствующей лирическим героям. Это противоборство и составляет драматургическую пружину конфликта как пьесы, так и оперы Прокофьева.
И. Попов:
«Уродливая карга, стремящаяся ценой любых интриг и обманов заполучить неважно какого по душевным качествам, лишь бы богатого мужа, превращалась в обычную некрасивую женщину, жаждущую любви и отнюдь не лишенную права на нее.
Неожиданная драматургическая и психологическая перестройка!»[54].
Традиции классической комической оперы в полной мере наличествуют в комической опере Т. Хренникова «Доротея», делают ее демократичной и доступной самому широкому контингенту зрителей.
«Доротея» являет собой органический сплав классических традиций с современным музыкальным языком — ярким, броским, стремительным, наполненным щедрым изобилием превосходных самобытных мелодий.
Поистине мелодия царит в этом произведении Хренникова — нескончаемый мелодический поток, властно берущий в плен любого, кто соприкоснется с ним.
«Очарование мелодий», о котором мечтал Руссо, здесь покоряет своей красотой. Когда слушаешь «Доротею», еще раз убеждаешься в том, какой силой и художественной убедительностью обладает оригинальная, рельефно-скульптурная мелодия.
Появление «Доротеи» Хренникова еще раз подтвердило, что в наш шумный, сумбурный век, грохочущий и суетливо мечущийся, набирающий темпы буквально с каждым днем, с каждым часом, все сильнее, безжалостнее отметая созерцательность и душевный покой, мелодия становится каким-то духовным оазисом, где можно остановиться, сосредоточиться, просто успокоиться и воспринимать плавный, сердечный, искренний разговор, ведущийся посредством музыки.
Е. Светланов:
«Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко показал свой новый спектакль — комическую оперу Хренникова « Доротея» (по шеридановской «Дуэнье»). Тем, кто «захандрил», необходимо как можно скорее пойти на «Доротею» Хренникова. Это — счастливая возможность получить огромный «заряд» душевных сил, истинного удовольствия и радости впрок, на многие дни вперед»[55].
Ю. Левитин:
«Слушателей и зрителей сразу захватывает происходящее на сцене и в оркестре. Органично и естественно переходит текст в музыкальные номера, столь же органично пение сменяется танцами. И везде на первом плане музыка, ее динамизм, яркость образов. Вообще весь спектакль наполнен весельем, остроумными музыкальными и сценическими находками.
...Особо нужно отметить режиссерскую работу И. Шароева.
Все решено просто, без всякой вычурности, надуманности и вместе с тем талантливо, ярко, броско. Режиссерскому решению как нельзя лучше соответствует красочное оформление художника А. Лушина.
...Уверен, что опере «Доротея» суждены долгая сценическая жизнь и постоянный успех у зрителей. Премьера оперы, горячо встреченная зрителями, подтверждает это»[56].
...Но тогда, весной 82-го, все эти теплые слова в адрес спектакля были впереди. И предсказать, чем закончится эксперимент (а создание нового сценического произведения — всегда эксперимент), что ждет нас впереди — поражение или победа, было невозможно. Тем более, что и в театре сомневающихся и скептиков было достаточно.
А при начале репетиционной работы мы совместно должны были решать много проблем, и решены они могли быть только на практике, непосредственно в процессе создания спектакля.
Репетиции «Доротеи» шли, как всегда, когда актеры увлечены материалом, шумно, темпераментно. Но покоя у меня не было. Я чувствовал, что мы бродим где-то около главного, существенного. На репетициях мы пробовали различные варианты эпизодов, пробовали и этюды на тему данной роли, данного сценического куска. Этот метод принес пользу актерам, раскрепостил их фантазию, и в будущем, когда спектакль был поставлен и пошел на публике, ощущение импровизации осталось — актеры играли раскрепощенно и легко. Но тогда, в начале работы, я только ощущал, что верное решение рядом, а оно никак не рождалось.
Не сразу я пришел к решению «спектакль-игра», «спектакль-карнавал». В процессе репетиций мне стало ясно, что играть всерьез драматургические конфликты, заложенные в либретто, нельзя, ибо музыка говорила о другом, что все эти страсти и горести преходящи, что впереди радость и счастье. Поэтому и в самые, казалось бы, драматические моменты, музыка была светлая и радостная, словно композитор все время напоминал нам, что все не совсем всерьез, что герои оперы обязательно помирятся, потому что они любят друг друга, потому что молоды, красивы и достойны счастья, и поэтому добьются его.
Вроде бы простые истины, а далеко не так все просто в нашем деле. Вспомните, одну из глав «Моей жизни в искусстве» К. С. Станиславский назвал «Открытие давно известных истин».
Когда мне стало ясно, что я буду ставить «спектакль-карнавал», то все встало на свои места, и репетиции пошли живее. В актерском исполнении стало рождаться отношение к образу — та отстраненность, некий иронический прищур в адрес изображаемого лица, без которого нельзя создать «спектакль-игру».
«Спектакль-карнавал» немыслим без активного движения. Его надо было решить в непрерывной пластической динамике, точно выстроенной на музыке Хренникова. В нашем спектакле мне хотелось воплотить давнюю мечту Мейерхольда, обозначенную им образно и неожиданно, как все, что рождалось у этого необыкновенного Мастера,— «музыка пластических движений». Но для достижения этого результата необходим был определенный «подготовительный период». Культура движения, которой славился театр в 20—30-е годы, что греха таить, потеряна. И дело было не только в технике, которой владели в те годы актеры. Проблема здесь значительно серьезнее. «В основу пластики надо поставить... внутреннее движение энергии... Это внутреннее ощущение проходящей по телу энергии мы называем чувством движения»[57]. Эти мудрые слова принадлежат Станиславскому. И, как видите, речь здесь идет не о технике движения, а о более серьезном и сложном психофизическом явлении — «чувстве движения», то есть единении «жизни человеческого духа» с ее внешним выражением.
Мы давно отучились от подлинной пластической динамики, и лишь театральным давним преданием стала мейерхольдовская биомеханика и таировские спектакли-пантомимы.
Так вот, надо было начинать с азов. И начали мы с ежедневных утренних занятий движением. Оперная труппа затанцевала. Сначала со скрипом... не только растрескавшегося паркета в малом фойе. А затем все больше и больше увлекаясь. Каждое утро, до больших репетиций, весь состав исполнителей «Доротеи» — совсем молодые, и заслуженные, и народные — все собирались в малом фойе и под руководством балетмейстера В. Усманова и педагогов выполняли довольно-таки сложные танцевальные упражнения. Сначала упражнения, станок, потом движения, необходимые для испанского танца. Актеры поначалу ворчали, что так много тратится времени на движение, затем увлеклись и потребовали увеличить число часов занятий по танцу. И теперь перед репетицией наведываясь в малое фойе, я убеждался: все актеры на местах, все танцуют — танцуют самозабвенно, весело, с неподдельным удовольствием... Им нравится, что они покажутся в спектакле в новом качестве — легкими, подвижными, изящными. В который раз одно и то же — в театре сначала ворчат, обижаются, сопротивляются, а проходит время, и увлекаются, радуются тому, против чего восставали сами... Только значительно позже — месяца через полтора — началась постановка танцев к «Доротее». И еще больше двух месяцев театр танцевал. И не только солисты, хоровой ансамбль тоже. Позже, когда спектакль уже шел не один год и жили в своеобразной танцевальной пластике его герои, я с затаенной ностальгией вспоминал те блаженные дни, когда с такой увлеченностью и самоотдачей танцевал весь театр... На репетиции ко мне исполнители приходили возбужденные, всклокоченные, растерзанные, но довольные. Репетировали они после занятий по движению намного лучше, интереснее, горячее, чем обычно. Польза от всего этого была колоссальная.
Да и весь спектакль стал легче, стремительнее и естественнее «покатился»: актеры изящно и с удовольствием двигались, в какой-то мере приближаясь к тому, что Мейерхольд так метко назвал «музыкой пластических движений». С приподнятым чувством собирались мы на репетиции и репетировали без устали по многу часов, искали, пробовали, искали особый стиль «спектакля-карнавала».
О часов 15 минут. Телефонный звонок. Это звонит Хренников. У Тихона Николаевича есть его контрольное время — от без четверти двенадцать ночи до пятнадцати минут первого. Мы уже несколько лет работаем вместе, и Тихон Николаевич неизменно сохраняет свой телефонный график. В этот раз он звонит, чтобы поделиться впечатлениями от репетиции. Утром Тихон Николаевич был в театре, смотрел сценическую репетицию «Доротеи», но поговорить с ним не смогли, он спешил в Союз композиторов.
«Скажи, а тебе не кажется...»,— начинает разговор Тихон Николаевич, и дальше идет подробнейший профессиональный разбор драматургического построения сцены, которую я сегодня репетировал. И так каждый раз после репетиции — предложения, вопросы, советы.
Репетиция рождает у Тихона Николаевича новое решение, открывает новые возможности и неукротимое желание не останавливаться, идти дальше. После долгой беседы мы приходим к общему решению. Завтра утром на репетиции я попробую построить эту сцену так, как мы договорились. Уже поздно, мы заканчиваем беседу около часа ночи.
Подробнее расскажу, как мы стремились в репетициях освоить исполнительскую импровизационность. Конечно, импровизационность была, заключена в строгие рамки музыкального текста и режиссерского решения, но внутри этих рамок фантазия актеров разыгралась вовсю. Актерские импровизации в разговорных сценах были доведены до такой степени, что в ряде сцен у актеров сложился собственный текст, и зачастую очень смешной. Автор либретто Я. Халецкий, который часто бывал на репетициях, сам по профессии артист и знает цену нелегкому актерскому труду. Поэтому он внимательно отнесся к предложениям актеров, и часть текста, придуманного ими, вошла в спектакль.
В увлеченности «спектаклем-карнавалом» нам мало оказалось сцены, и однажды я почувствовал, что пора играть за рамками сценической коробки. Нет, я не собирался, как в елочном представлении, оклеить бумажными звездами фойе и играть там эпизоды спектакля. Это был не детский театр и не новогоднее представление для самых маленьких. Речь шла совершенно о другом. Действие как-то естественно на одной из репетиций перехлестнулось через рампу, и актеры заиграли в зрительном зале. Сначала все решили — актерская шутка, импровизированное развлечение. Но я специально, с умыслом выманил актеров в зрительный зал, мне хотелось попробовать этот прием, непривычный для оперного театра. Оперные артисты вышли в зрительный зал и несколько сцен сыграли и спели в зале, между рядами, буквально «на носу» у зрителей.
В перерыве, когда я раскрыл секрет и сказал, что хочу попробовать сыграть несколько эпизодов в зале, в кулуарах театра поднялась буря. Это же нарушение традиций оперного театра — играть и петь посреди зрителей! Что это, цирк, что ли, клоунада? Это же академический театр!
Актеры, играющие в зале и поначалу делающие это с удовольствием (ибо в самом существе актерской природы заложена тяга к новому, неизбитому, к тому, что может увлечь, разбудить фантазию), под давлением «общественного мнения» засомневались, стали проситься обратно на сцену, в привычную обстановку. Но мне показалось, что прием этот возможен, и я уговорил их попробовать еще раз. А потом еще. И хотя для оперных солистов такой прием был непривычен, они увлеклись, а когда артисты увлекаются, спектакль растет буквально на глазах.
Почуяв близость зала, не отдаленные привычной рампой, оперные артисты решили играть в зале приемами клоунады — резко, подчеркнуто громко, с той условной преувеличенностью оценок, которая характерна для клоунского жанра.
И однажды я сел как зритель в зал и попросил их сыграть. И — о боже! — схватился за голову: что мы наделали! Да это же смерть спектаклю. Это — ни в какие ворота! Но отступать было поздно. Я понял, что меня раздражало во время репетиции: актеры играют совсем рядом, в двух шагах от тебя, это — своеобразный «крупный план», и ты отчетливо видишь всю неправду, весь нажим и «плюсы». Значит, нужно добиваться диаметрально противоположного — естественности, точности, даже деликатности исполнения. Так мы и стали репетировать. И постепенно все стало смешным, ироничным, не выпадая из общего решения спектакля.
И все-таки вопрос об игре в зале окончательно не был решен. Мы договорились показать эпизоды в зале Тихону Николаевичу, но до просмотра содержалось все это в тайне, и Хренников не знал, какой сюрприз ждет его на одной из репетиций. И вот началось... Мы сидели рядом с Тихоном Николаевичем и не без волнения ждали его реакции на неожиданное для него решение. Вот заиграл оркестр вступление к дуэту Настоятеля и Настоятельницы монастырей — женского и мужского. Тихон Николаевич внимательно смотрел на сцену, ожидая появления актеров, как вдруг сзади, у последних кресел партера, раздался звучный голос Войнаровского. На лице Тихона Николаевича, с которого я не спускал глаз, сначала выразилось недоумение, потом, мне показалось, что возмущение — кто это там в зале хулиганит, мешает оркестровой репетиции! — он резко обернулся, увидел в глубине зала Войнаровского и Земцову в черных монашеских сутанах, к этому времени уже встретившихся в центральном проходе зрительного зала и начавших петь дуэт,— и тут вдруг улыбнулся как-то озорно, потом засмеялся и даже зааплодировал. И реакция его была настолько непосредственной и естественной, что все поняли — автор принял наш прием ,и одобрил его. «Друзья мои, только так, только так!»,— утверждал он, когда закончился эпизод. «Ничего не меняй!» — убежденно сказал он мне после репетиции. И мы оставили эпизоды в зале, они так шли в спектакле. Горячие аплодисменты, которыми зрители встречали каждый эпизод в зале, убедительнее любых доводов говорили о том, что «спектакль-игра» состоялся.
В дальнейшем актеры, играя эпизоды в зале, осмелев, стали на спектаклях обращаться с импровизационными репликами к дирижеру и оркестру, вводя их в общую игру, а затем — к зрителям и даже композитору, когда он бывал на спектаклях. Импровизационный дух и раскованность придавали нашей «Доротее» свежесть на каждом спектакле, создавая в зале атмосферу подлинности театрального творчества.
Р. Габичвадзе:
«Постановщик спектакля И. Шароев нашел верный ключ к решению достаточно сложных задач. Каждая мизансцена точно рассчитана, полна тонких режиссерских находок и оставляет вместе с тем достаточно простора для актерской импровизации.
...Режиссер находчиво использует в качестве сценической площадки весь зрительный зал, как бы вовлекая аудиторию в хитроумную театральную игру, столь соответствующую самому духу комедии. И исполнители чувствуют себя легко и раскрепощенно, двигаются и разговаривают столь же органично и эмоционально непринужденно, как поют и танцуют. А это, как мы знаем, дается оперным актерам непросто!»[58].
Репетиции «спектакля-карнавала» продолжались. В «Доротее» удалось собрать блестящий состав исполнителей — лучшее, что составляло ядро труппы начала 80-х годов в Московском музыкальном. Признанные мастера: В. Канделаки, Л. Болдин, А. Мищевский, Э. Саркисян, Л. Захаренко, Ю. Абакумовская, О. Кленов, Л. Екимов, В. Свистов, В. Войнаровский, Я. Кратов, В. Федоркин, талантливые молодые артисты: Л. Казарновская, А. Лошак, Л. Черных, В. Таращенко и другие — все они вложили частицу своего сердца в трудный и увлекательный процесс рождения новой оперы.
Р. Габичвадзе:
«В спектакле столько актерских удач, что, посмотрев его дважды, я, право, затрудняюсь выделить какой-либо один состав из составов исполнителей. Каждый из певцов-артистов трактует свои роли в соответствии с особенностями собственного характера и темперамента. И каждый по-своему убедителен. Не могу не назвать здесь Л. Захаренко и Э. Саркисян в заглавной роли, Л. Казарновскую (Леонора), А. Вознесенскую (Инесса). Все они покоряют и превосходным пением, и выразительной актерской игрой. Под стать им партнеры — А. Лошак (Фернандо) и А. Мищевский (Антонио). Не схожи по вокальному и сценическому облику, но одинаково великолепны в роли Мендосо ветеран театра В. Канделаки и Л. Болдин. Обаятельный образ отца влюбленных, дона Джеромо создает В. Федоркин. Из исполнителей эпизодических ролей особо хочется назвать чрезвычайно колоритных В. Войнаровского (отец Пабло) и Г. Земцову (Настоятельница»)[59].
А. Пахмутова:
«Об одном участнике премьеры хочется сказать особо. Это В. Канделаки, исполняющий партию Мендосо. Он с юношеской легкостью играет свою непростую роль. Все удается мастеру, он живет на сцене жизнью своего героя, и не удивительно, что каждое его появление вызывает радостную реакцию зрительного зала»[60].
Роль Мендосо была первой нашей совместной работой с Канделаки. Начав репетировать, мы определенное время словно приглядывались друг к другу.
Я заметил на репетициях некую осторожность Владимира Аркадьевича. Он будто не спешил включиться в них в полную силу — приходил, усаживался в малом фойе, где шли репетиции, в углу, смотрел, слушал, в перерывах беседовал со мной о тех или иных моментах роли, но сам не репетировал. Как только я обращался к нему, предлагая начать репетировать, он мгновенно находил причину — то голова болит, то ноги, то текст еще не улегся — словом, чего только не придумают артисты, чтобы не репетировать. Но здесь случай был особый — я это чувствовал. Он регулярно появлялся на репетициях — аккуратнее, чем другие исполнители — заранее, минут за 15 до начала, был уже на месте, готовый к репетиции, но не репетировал. И, что сразу бросалось в глаза, очень внимателен был на репетициях. Так продолжалось недели две. А потом внезапно он сказал: «Можно, я попробую?» И пошел на сцену. И сразу стало ясно, что времени он не тратил. Канделаки много говорит о необходимости «домашней работы» над ролью, справедливо упрекая сегодняшних молодых оперных певцов в явном отсутствии подобного процесса. Он показал всему театру, что значит «домашняя работа». Выйдя на первую свою репетицию, он оказался готовым больше, чем его партнеры, репетировавшие две недели. В его артистической душе созрело некое зерно, приближавшее его к образу Мендосо.
Мы репетировали IV картину — «Улицу в Севилье», первое появление Мендосо в спектакле. Он вышел, поигрывая какой-то дурацкой палкой, и запел куплеты Мендосо, доверительно рассказывая нам о своих мнимых любовных победах. И столько в этом было самоуверенности, бахвальства, наивного восхищения самим собой (это шло от образа) и вместе с тем лукавства и легкой ироничности (что шло от отношения Владимира Аркадьевича к образу), что мы все покатились со смеху.
Мы долго беседовали с ним после репетиции. Эта беседа очень сблизила нас, ибо у нас нашлось много общих взглядов не только на образ Мендосо, но и на более сложные явления. С этой памятной репетиции Владимир Аркадьевич стал репетировать интенсивно и постоянно. Он придумал почти клоунский трюк с палкой в своем первом выходе, когда палка абстрагировалась от своего хозяина и начинала жить самостоятельной жизнью — трюк был неожиданный и смешной, но Владимир Аркадьевич взял с меня слово держать его в тайне («чтоб не украли»,— таинственно объяснил Канделаки), хотя украсть его никто в другие театры или в телевидение не мог, так как репетиции шли при закрытых дверях, и «Доротею» ставили мы первыми.
С Владимиром Аркадьевичем нас связывало многое, в том числе и гитисовская школа. Несмотря на разницу в 20 с лишним лет, мы учились в ГИТИСе у одного педагога — Л. В. Баратова (в разное, конечно, время), который принял в ГИТИС Владимира Аркадьевича, учил его, а затем привел в Московский музыкальный, куда Немирович-Данченко взял его еще студентом ГИТИСа. Более 50 лет Владимир Аркадьевич выступает на сцене Московского музыкального, это его родной дом, и он и сегодня относится к родному театру с трепетом и волнением. Мне кажется, что слово «театр» он пишет в душе всегда с большой буквы.
Канделаки — непосредственный воспитанник Немировича-Данченко, он — словно живая традиция Московского музыкального театра. Вот уж к кому в полной мере применимо определение Немировича-Данченко «поющий актер». Мне кажется, в нем и в Н. Ф. Кемарской, которая была моей ближайшей помощницей по ряду спектаклей в Московском музыкальном, определение Немировича-Данченко нашло блестящее воплощение. Надежду Федоровну я не застал на сцене — не привелось, но если бы вы видели, как она показывала на репетициях! Какая это была актерская правда, музыкальность, точность рисунка! А как держалась она в театре, с каким достоинством! Любая молодая актриса позавидовала бы ее стройности и какой-то породистой величавой осанке. И никто не верил, что ей уже около 80, как уверяла она, а на самом деле ей было далеко за 80.
В «Доротее» Надежда Федоровна деятельно помогала мне как режиссер и внесла в подготовку спектакля много талантливого, свежего, что украсило наш спектакль.
Ставя «Доротею» как «спектакль-карнавал», я стал вносить изменения не только в актерское исполнение, но и в оформление сцены, костюмы, реквизит. Так появились в спектакле те самые скамьи-каталки, которые позволили мгновенно менять мизансцены — и индивидуальные, и групповые. Их на глазах у зрителей катали по сцене слуги и несколько «цанни» — слуг просцениума, они стали не только деталью оформления, но и своеобразным динамическим звеном спектакля. Разные неожиданности стали возникать в процессе репетиций. Так, вдруг из оркестра появлялся Антонио и, удобно устроившись на барьере оркестровой ямы, пел любовную серенаду... Когда Мендосо приглашал отвезти Инессу домой в своей «карете» (которой являлась, конечно же, скамья-каталка), неожиданно появлялся «конек» (его изображал мой студент А. Чумаков). У него не было ни лошадиной головы, ни хвоста — так обычно условно изображают в театре лошадь. Одет «конек» был в обычное черное трико, только на груди его блестела небольшая сбруя... «Конек» впрягался в карету, и все трио, следующее за этим эпизодом, шло в движении — «конек», весело пританцовывая и с удовольствием жуя сено, резво вез по сцене «карету» с Инессой. А встреча Мендосо с доном Джеромо, когда они договаривались о свадьбе Инессы, неожиданно возникала... в бане, где они парились, нежась в жару и пару, принимая массаж от ярых массажистов, разминающих полуголых героев комической истории, точно попадая движениями в такт музыки. (Эту сцену всегда встречали зрители аплодисментами — верно воспринимая сцену, ассоциируя ее с сауной, ставшей сегодняшним модным увлечением.) А затем наши герои играли в «старинную рыцарскую игру», стреляя в мишени — раскрашенных деревянных петухов, которых выносили слуги-мимы, падающие от каждого выстрела в обморок. И называлась эта игра «Целься с нами, целься, как мы, целься лучше нас», по поводу чего дон Джеромо исполнял бравурный марш. А когда распутывался клубок недоразумений и действие стремительно катилось к финалу, счастливый отец убегал в зал, радушно приглашая всех зрителей на свадьбу своей любимой дочери... Так, наконец, в спектакле появились титры — да, да, не удивляйтесь — титры, разъясняющие, комментирующие действие, несущие не просто информационные функции, а определенный комический элемент, ибо титры постоянно вмешивались в действие, становясь его динамическим компонентом. И я искал не спокойно-информационную интонацию титров, а их взволнованную, заинтересованную речь, приближающуюся к человеческой — словно живую авторскую реакцию на то или иное событие. Титры вносили «цанни», сопровождая каждый выход короткими пантомимическими сценками в характере титра. Анатолий Елизаров, замечательный мим, педагог нашей гитисовской кафедры, поставил по моему заданию более 20 коротких пантомим для «цанни», выносящих титры, и каждая пантомима пластически подчеркивала смысл текста. Это были микропантомимы, продолжающиеся всего полминуты, а зачастую и меньше. Много раз в течение спектакля появлялись титры, вызывая неизменное оживление в зале. Титры стали не только молчаливыми комментаторами, но, войдя в ткань действия, приобрели функции полноправных слагаемых общей драматургической структуры. Парадоксально, но бессловесные миниатюры, введенные в ткань комической оперы, не разрушали, а, напротив, развивали динамику музыкальной драматургии (пантомимные миниатюры с титрами исполняли мои гитисовские студенты). К примеру, перед эпизодом в мужском монастыре, когда за сценой звучал могучий храп пьяных монахов, появлялись молитвенно-восторженные фигуры мимов, они крались осторожно, показывая зрителям «Тс-с!», и этот жест от повторения становился нелепым и смешным: в конце концов появлялся титр «БРАТЬЯ ВО ХРИСТЕ». А после такой затаенной прелюдии возникал мужской монастырь, где «братья» разворачивались вовсю, танцуя с кувшинами и кружками и восторженно вопя хор «Два глотка». Титр «БРАТЬЯ ВО ХРИСТЕ» по контрасту с пьянством монахов неизменно вызывал смех в зрительном зале.
А зачастую при помощи титров шло эмоциональное нагнетание. В сцене ссоры дона Джеромо с дочерью Инессой выбегал один из слуг-мимов с титром «ОТЕЦ», а другие мимы-слуги рядом со словом «отец» выстраивали стремительно сменяющиеся, как бы наплывающие один на другой титры: «УДИВЛЕН!» «ВОЗМУЩЕН!», «ПОТРЯСЕН!!» «ОЧЕНЬ!!!»
Получалась словно живая речь, с эмоциональным нагнетанием, как нервные возгласы, вопли отца, потрясенного поступком дочери. Этот эпизод с титрами сопровождался по мере появления надписей пантомимой «Ужас», в которой с каждым новым титром мои студенты, изображающие слуг, нагнетали трагедию до полной абсурдности.
И в самом финале, когда примирялся Джеромо с дочерью, этот прием возвращался, но как бы в зеркальном отражении. Один из слуг, приплясывая на месте от радостного нетерпения, держал над головой титр «ОТЕЦ», другие же выносили один за другим титры «УДИВЛЕН!» «ВОСХИЩЕН!!» «ОЧЕНЬ!!!», слуги при этом играли пантомиму, поражаясь и восхищаясь появлению каждого нового титра. И то, что сами слуги оценивали титры, создавало ту органику введения титров в музыкальную драматургию, о которой я говорил выше.
Титрами акцентировался и первый выход Мендосо, важный для сюжета пьесы и для всей интриги. Звучало вступление к песне Мендосо, выбегали слуги просцениума, в страхе оглядываясь на Мендосо, которого зрители еще не видели, и знаками предупреждая зрителей, чтобы их не выдали, показывали титры «МЕНДОСО ПРИБЛИЖАЕТСЯ». А затем, роняя в суматохе титры и на ходу подхватывая их, слуги убегали. На смену им появлялся расфранченный Мендосо, направляющийся в дом дона Джеромо жениться на красавице дочери. Так решалось ложно-значительное появление главного героя. Вся молчаливая пантомимная сцена, предшествующая появлению Мендосо, шла не больше полуминуты, но ее разработка потребовала тщательности и скрупулезного отбора, а исполнение — точности оценок и выполнения сценического рисунка, как, впрочем, и все пантомимное решение эпизодов с титрами. Титры начинали и сцену «Улицы в Севилье», когда перепуганные слуги, спасаясь от дуэлянтов, запрудивших всю улицу, убегали, успев показать титр «ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ». А перед началом эпизода в бане, под урчание воды и тяжкие вздохи невидимых отдувающихся Мендосо и дона Джеромо, в сплошном пару появлялись мимы, изображающие задыхающихся от жары банщиков, и в рассеивающемся пару возникали титры — «МАВРИТАНСКАЯ САУНА».
И когда начинался финальный ансамбль «В театре всякое бывает...», то с разных сторон стремительно выбегали слуги-мимы, изображая пантомиму «Радость», вынося титры «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» и «СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ». А под самый финал возникал титр «ЗАНАВЕС», после чего, естественно, оставалось только закрыть занавес. Так титры, пронизав все действие комической оперы, органично вошли в драматургическую ткань и дали новое качество музыкальному спектаклю — качество современное, ироничное. Пластические корни его заложены в ощущении кинематографа и телевидения.
Так с разных сторон шли мы к решению «спектакля-карнавала», «спектакля-игры». И это был ключ к воплощению жизнерадостной, солнечной музыки Хренникова.
И. Попов:
«Гибкие, пластичные звуковые образы, сменяя друг друга в стремительной динамике развертывания сюжета, создают порой ощущение импровизационной раскованности потока музыки. Но оно обманчиво. В партитуре этой строжайше выверена каждая деталь формы, все связано с развитием фабулы, характеристиками действующих лиц. Эмоциональный диапазон музыки широк и объемен — от упоения чувством любви до злой, беспощадной сатиры. И еще одно. Музыка «Доротеи» в высшей степени театральна, она будоражит фантазию постановщиков, увлекает исполнителей. Подтверждение этому — воплощение оперы на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Творческому почерку главного режиссера театра Иоакима Шароева всегда свойственна яркость сценической формы спектакля, но в «Доротее» он превзошел самого себя. Режиссерская выдумка кажется здесь неистощимой, эффектность постановочных приемов поражает. При этом Шароев все время «держит руку на пульсе музыки», тонко чувствует малейшие изменения в ее эмоциональном строе. Решение спектакля сопряжено с музыкой, обусловлено ее драматургией, направлено на полное, глубокое раскрытие замысла композитора»[61].
О «Золотом теленке»
Еще шли репетиции «Доротеи», когда Тихон Николаевич сказал мне: «А знаешь,— «Золотой теленок» — это ведь здорово, а? И абсолютно современно: их и сегодня полно, Остапов Бендеров! А с другой стороны — БАМ, романтика, молодежь!» Я не понял, при чем тут БАМ, но потом это стало ясно. Тихон Николаевич оговорился, он имел в виду Турксиб: и в дальнейшем называл сцену на Турксибе БАМом — видно, эта ассоциация «сработала» у него сразу, еще до начала работы над новой оперой.
Так вот — «Золотой теленок». И ни больше, ни меньше! Это было так неожиданно, что я, помню, ничего тогда не ответил. «Золотой теленок»! После «Доротеи» я был настроен «вырвать» у Тихона Николаевича новую оперу: рождалась надежда, что композитор, после 30-летнего перерыва вернувшийся в оперу, на волне успеха «Доротеи» согласится написать еще одно оперное произведение. Разные мелькали названия из классического наследия, которые театр хотел предложить Тихону Николаевичу, но композитор опередил нас. Сегодня можно признаться — сказанное Тихоном Николаевичем огорошило многих. «Золотой теленок»... Как нежданно-негаданно, не согласно ни с какими традициями, как заманчиво и, не скрою, опасно... Но слово было произнесено. И началось...
Остап, распевающий арии? А куда денется все остроумие его словесного запаса, золотые россыпи комического, без которых Остапа Бендера просто нет и быть не может? Что же, он так и запоет: «Бен-зин ва-а-аш, иде-е-и на-а-ши!» Или же — оперный диалог: «Плюньте на все это! — Как плюнуть? — Очень просто — слюной. Как плевали до исторического материализма!» Попробуйте сами пропеть это громким голосом и поймете, о чем идет речь. Бендер, сын турецко-подданного, вдруг превратившийся в традиционного оперного любовника и распевающий с Зосей любовные дуэты?
Или же — ариозо хапуги-миллионера Корейко? Ария зицпредседателя Фунта? Дуэт Варвары с Васисуалием Лоханкиным? Да мыслимо ли это?
И потом, опера с ее обязательной романтической условностью, «бельканто», и злая, чуть ли не злободневная сатира? Ильф и Петров, с сочными бытовыми, социально точно обозначенными и потому такими узнаваемыми чертами жизненного уклада, яростным изобличением пороков — воровства, мещанства, бюрократизма, головотяпства, приспособленчества, даже — сутенерства (Васисуалий Лоханкин)?
К темам, схожим с Ильфом и Петровым, обращалась оперетта и музыкальная комедия, но современная опера — никогда. Создание сатирической оперы на современную тему — на это композиторы не так часто отваживались. Хренников увидел в романе Ильфа и Петрова то, мимо чего прошли все мы. «Я прочел «12 стульев» и «Золотого теленка» Ильфа и Петрова в то время, когда они только появились, — рассказывал Т. Н. Хренников. — С тех пор я не раз подумывал о том, как бы написать оперу по одному из романов. Но «12 стульев» ставят перед композитором непреодолимые сложности. В них столько событий и персонажей, что сделать по этому произведению оперу, по-моему, невозможно, А вот «Золотой теленок» представляет собой более «податливый» материал для композитора. Теперь меня даже удивляет, как мимо таких музыкальных возможностей «Золотого теленка» могли пройти мои коллеги-композиторы: стремительный сюжет, острые ситуации, колоритные образы — все это, кажется, само просилось в музыкальный театр.
Этот роман, не потерявший актуальности и в наши дни, хорошая основа для комической оперы. Главная сложность, которую я стремился преодолеть в работе — найти естественную характерную интонацию для каждого персонажа, чтобы в ней не было фальши, а была правда жизни, которая должна стать правдой музыкального языка»[62].
Правда жизни, ставшая правдой музыкального языка, — знаменательное признание композитора! В этом понимание не только его «Золотого теленка», но и всего творчества Хренникова.
Трудности перед композитором были большие. И понадобился весь талант и мастерство Тихона Николаевича, чтобы преодолеть барьер и написать свой вариант «Золотого теленка» — свое произведение, созданное Хренниковым по мотивам Ильфа и Петрова.
А. Дашичева:
«Сейчас, после премьеры комической оперы «Золотой теленок», ее героев уже невозможно представить себе без музыки»[63].
Но так стало казаться после премьеры «Золотого теленка». Потому что, очевидно, так уж устроены мы: когда все позади, нам кажется, что многое само собой подразумевалось, и то, что состоялось, состоялось гладко и спокойно, ибо состоялось же! А ведь пришлось пройти через многие сложности и сомнения. Рождение нового в музыкальном театре — процесс всегда сложный, неоднозначный, порой мучительный, но всегда необычайно интересный.
Для меня работа над «Золотым теленком» была вдвойне ответственна, ибо здесь я выступал не только режиссером-постановщиком, но и одним из авторов либретто (совместно с Я. Халецким).
Когда думаешь об инсценировке «Золотого теленка», то сразу на память приходят неоднократные попытки создания театральных, кино- и телевизионных версий «12 стульев» и «Золотого теленка». Играли в этих фильмах и спектаклях отличные актеры и ставили их опытные режиссеры-профессионалы. Откровенно сказать — в театральных и кинематографических инсценировках романы в какой-то мере теряли силу и меткость сатирического удара, обобщенность и глубину подтекста, и эти потери, очевидно, неизбежны, ибо невозможно «пересказать» роман, переведя его в зримое действо, да и надо ли делать это? А как же с оперой, стоящей неизмеримо дальше от жанра, в котором написан «Золотой теленок», нежели кино и драматический театр?
Стремительный, без остановок мчащийся вперед сюжет «Золотого теленка» — не завязнет ли он в оперной статике, не приобретет ли, превратившись в оперу, черты внутренней неподвижности, наливаясь в каждом эпизоде свинцовой тяжестью?
Нет, успокаивал я себя, у театра многолетний «стаж» работы над созданием комических опер, и среди них — «Доротея», вооружившая всех, кто работал над спектаклем, опытом, а потому — прочь сомнения, смелей вперед!.. Но там, говорил другой голос во мне («внутренним редактором» называл его А. П. Довженко), речь идет о персонажах, живущих в далеком XVIII веке, в неведомой нам Севилье, да еще придуманных англичанином. Там, в «Доротее», полный простор для фантазии, там нет строгих правил игры, ибо и эпоха, и персонажи, и их проблемы находятся от нас на таком расстоянии, так удалены от нашего времени, что только какой-нибудь «узкий специалист» по Испании XVIII века сможет найти изъяны в спектакле, но это ведь исключительный случай — такой вот специалист в зрительном зале. А «Золотой теленок»? Найдется ли хоть один человек, не знающий великого сатирического романа? И, увы, его хрестоматийность, и со школьных лет знакомые каждому из нас образы, характеры, словесный материал — все создает неблагоприятные условия для инсценировки и постановки «Золотого теленка». Значит, ты заранее вступаешь в конфликтные отношения со зрительским восприятием...
Наверное, далеко не все получилось в нашем спектакле. Конечно, можно найти самые разные решения романа Ильфа и Петрова — и музыкальные, и сценические. Так же, как может быть бесконечное количество мнений по поводу любого решения. Но судить все-таки надо не потому, что не сделано авторами оперы и спектакля. Разговор должен идти о проделанной работе, и оценивать надо именно ее, а не то, что хотелось бы видеть в ней тем или иным критикам. «Золотой теленок» вызвал яростные споры, злобные нападки, даже протесты — опера ли это, или какой-то иной жанр музыкального действа, определить который сегодня трудно. Критики спорили на эту тему, увлекаясь все больше и больше формальной стороной дела — нахождением той «полочки», на которую следовало бы определить «Золотого теленка», но так и не пришли к общему мнению. А «Золотой теленок», несмотря на то, что жанровую «фамилию» ему критики так и не нашли, все-таки родился, состоялся на сцене Московского музыкального.
В чем секрет того, что все-таки свершилось и, как писали рецензенты, «Остап Бендер запел в опере»? Об этом убедительно сказал О. Фельцман в статье «Командует парадом музыка»:
«Сегодня мы стали свидетелями того, как музыка совершила волшебство, став командующим парадом давно знакомых нам действующих лиц. Музыкальные образы приобрели такую характерность и интонационную выразительность, что по окончании спектакля мотивы арий, дуэтов, ансамблей звучат в вашей памяти как афоризмы, как «позывные» целой галереи знакомых по роману персонажей.
...Чувство драматургии, театра, ощущение своеобразия действующего лица, от имени которого идет повествование, всегда было и сегодня остается одной из сильнейших сторон творческого дара Т. Н. Хренникова. Ощущение эпохи, времени, пульса жизни у этого выдающегося композитора поразительны! Сейчас, когда комическая опера «Золотой теленок» уже создана и с огромным успехом идет на сцене Академического театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, не представляешь себе, как это все могло быть написано по-другому!»[64]
Фельцман проницательно заметил, что персонажи «Золотого теленка» должны были стать «узнаваемыми уже не с первого взгляда (хотя это очень важно), а с первого звука». Секрет удачи Хренникова в «Золотом теленке», очевидно, в этом точном попадании в цель музыкальных характеристик образов.
Музыкальные характеристики, своеобразные лейттемы образов стали основными звеньями, из которых выстроилась система музыкальной драматургии оперы. Каждый образ оперы получил запоминающееся звуковое воплощение, ставшее музыкальным «зерном» образа, его действенной сущностью; из музыкальных зерен вырастают музыкально-драматургические образы, эти «зерна» зреют, наливаются внутренней силой. Большинство этих музыкальных «зерен» — сатирические, даже гротесковые, но Тихон Николаевич и здесь остался верен себе, своему уникальному мелодическому дару, ни в чем не отойдя от принципа господства мелодического богатства.
И. Мартынов:
«Герои романа, перенесенные на сцену музыкального театра, зажили новой жизнью, сохранив свои хорошо известные всем черты. Композитор нашел верный тон сатирического повествования, проявил интонационную чуткость, позволившую живо воссоздать облик персонажей»[65].
Но не только в воплощении сатирической линии была победа композитора. Соприкоснувшись с резко сатирической темой Ильфа и Петрова, он нашел в материале романа ту жизнерадостную, утверждающую положительное начало тему, которая только пунктирно намечена в романе Ильфа и Петрова и которая чрезвычайно близка творчеству Тихона Николаевича. И она стала у Тихона Николаевича одним из главных музыкальных «зерен» оперы, отчего вся смысловая линия действия приобрела неожиданную глубину и многозначность. Авторский секрет заключался в драматургическом решении темы молодежи, прошедшей сквозной линией через всю оперу. Одна из находок Тихона Николаевича — молодежная песня «Руку дай, товарищ», музыкальный образ, воплотивший энергию молодого поколения.
Тема молодежи была выстроена Хренниковым в музыкальной структуре оперы как один из основных динамических компонентов музыкальной драматургии.
Стремительную динамику спектакля, его напряженный внутренний ритм диктовало одно немаловажное обстоятельство. Я определил сквозное действие «Золотого теленка» как погоню за миллионом. Именно погоня, где все мелькает, мчится, кувыркается, падает, разбивается, вновь мчится, рушится, сталкивается — бешеная погоня, в которую вовлекается все большее и большее количество людей — остервенелая погоня фанатиков, обуреваемых безумной жаждой наживы, маньяков наживы, вдохновенных поэтов наживы, включившихся в сумасшедший круговорот нелепостей, которые громоздятся одна на другую, из которых им уже не вырваться никогда. Выход либо в смерти — как у Паниковского, или в тюрьме — как у Балаганова. Остальным не вырваться из магического круга, в котором заверчены его участники и в центростремительной силе которого постепенно теряется все — честь, любовь, будущее... И чем дальше развивается погоня, тем нелепее становятся поступки тех, кто в ней участвует, и все ближе и ближе они к полному абсурду, не замечая его, не понимая всей нелепости их положения, их страстей, их желаний. Потому что вся их бешеная страсть и нечеловеческие усилия направлены на... ничто. Ибо конечная цель — громадные деньги — это только миф, ведь только двое из многоликой компании, которая участвует в длительном кошмаре погони за миллионами, достигают цели и при этом... теряют все. Ибо несчастен подпольный миллионер Корейко, навсегда потерявший покой и сон, судорожно цепляющийся за свой чемодан с миллионом; и, вырвав, наконец, заветный миллион, Остап теряет все — силу, обаяние, талант, жизнерадостность, удачливость. Любовь и счастье прошли мимо него и деться ему некуда с миллионом, и становится он в результате не нужным никому. А затем колесо начинает вертеться в обратную сторону, и теперь уже вступает в борьбу центробежная сила, расшвыривающая в разные стороны тех, кто был затянут в круговерть. Как в «колесе смеха» летят вверх тормашками те, кто стремился оседлать его, летят, кувыркаясь, судорожно пытаясь уцепиться из последних сил за колесо. Но тщетны все усилия — движение круговерти безжалостно, и неумолимо она выметает всех, кого сама же затянула.
И превращается все в фарс, и смешны, нелепы те, кто кувыркаются и цепляются — люди-колючки, уносимые по степи ураганом...
А рядом могучее встречное движение — нарождающаяся новая жизнь с высокими нравственными идеалами — жизнь радостная, юная, звонко-песенная, и графически ее я воспринимал, в противовес замкнутой круговерти, как прямую, стремительную стрелу, прошивающую, пронзающую магический круг погони за наживой. И победа не за замкнутым магическим кругом, вовлекающим в свое движение одного за другим, победа — за тем новым, что несет с собой молодая жизнь.
Об этом — «Золотой теленок».
В бешеной круговерти увиделся мне образ спектакля, его и стремился я воссоздать. И главное — в актерском исполнении. Если б удалось добиться от актеров вот этой страсти, одержимости в достижении своей цели, неукротимого стремления к осуществлению своей — пусть абсурдной, нелепой — но мечты! Голубой мечты, по определению Остапа. Наверное, это была очень трудная задача, стоящая перед режиссером и актерами.
Много ли в нашей литературе сатирических романов, которые могут соперничать по популярности с романом Ильфа и Петрова?
«12 стульев» и «Золотой теленок», если не перекрыли все рекорды, то, по крайней мере, приближаются к этому. У каждого из нас свое видение как всего романа, так и любого из его образов. Несомненно, у каждого из нас — свой Остап, да, именно свой, не похожий на других Остапов, сложившихся у тысяч других людей, рожденный фантазией читателей «Золотого теленка». И переубедить любого из нас, что образ, с которым каждый сжился накрепко, может быть другим,— попытка, казалось, безнадежная. То же и о славном экипаже «Антилопы» — Паниковском, Козлевиче, Шуре Балаганове. Даже Берлага (а он совсем уж не главный герой) — у каждого из нас свой собственный. Да, все персонажи «Золотого теленка» — и основные, и совсем эпизодические — у каждого свои. И в этом — колоссальная трудность, ибо прежде, чем убедить зрительный зал в нашей трактовке, его сначала надо переубедить, заставив отказаться от своей. Может, потому фильмы и спектакли, сделанные по Ильфу и Петрову, вызывали вопросы — несмотря на целую плеяду замечательных комедийных актеров: Юрский, Евстигнеев, Папанов, Миронов, Гердт, Весник... Какой набор мастеров комедии, какое блестящее созвездие!.. А ведь у нас в спектакле будут оперные певцы, творчество которых определяют совсем иные качества, нежели творчество актеров, упомянутых выше...
Вспоминаю наш разговор с Тихоном Николаевичем, когда опера уже была написана. Я назначил на роль Паниковского артиста нашего театра В. Войнаровского — певца-актера со специфической внешностью, близкой скорее к Гаргантюа и Фальстафу, и при этом владеющего невероятной подвижностью и мягкой пластичностью.
Превосходный комический актер с яркой выдумкой, эксцентричностью, тонким ощущением юмора, Войнаровский обладает первоклассным тенором и музыкальностью. Все эти качества необычайно ценны для своеобразного творческого лица Московского музыкального театра, одним из лучших актеров которого является Войнаровский. Он был подлинной находкой для новой комической оперы Хренникова. Но совершенно неожиданно запротестовал композитор. Он любил Войнаровского и ценил его артистический дар: роль Настоятеля мужского монастыря в «Доротее», которую исполнял Войнаровский, композитор считал одной из лучших актерских удач спектакля, но здесь вдруг Тихон Николаевич решительно воспротивился: «Да он же совершенно не похож на Паниковского! Вспомни — Паниковский длинный, худой и с большими усами!» Ну, усы, пожалуй, можно было и приклеить, а вот как сделать длинным и худым Войнаровского (внешним обликом скорее похожим на Колобка, чем на образ, сложившийся у Тихона Николаевича)? Наш спор разгорался. «Ты внимательно перечитай роман! — настаивал Тихон Николаевич.— Там же сказано — длинный и худой!» И хотя с детских лет я знал оба романа Ильфа и Петрова почти наизусть (их музыкальность и удивительная ритмическая основа сами по себе остаются в памяти как стихи, как музыка — целыми страницами), я еще раз (в который!) перелистал «Теленка». И... не нашел описания внешности Паниковского — за исключением деталей костюма и знаменитых грязных манишек. В дальнейшем, когда Тихон Николаевич увидел Войнаровского в репетиции, артист был реабилитирован (вернее, его внешность), вошел в актерский ансамбль «Теленка» и блистательно сыграл Паниковского. И Тихон Николаевич был в восторге от него, целиком приняв наше решение образа.
Перед либреттистами задача стояла сложная — выстроить драматургическую конструкцию из огромного материала романа — вернее, двух романов. Из «12 стульев» в оперу перекочевала и тема 12 стульев, и мадам Грицацуева, привнеся как бы «хвост» событий прежней жизни уважаемого Остапа Ибрагимовича. Из «12 стульев» перебежали в «Теленка» и пацаны — те самые озорные «дети улицы», которых Остап ласково называл «дефективные» и которым в награду за труды обещал дырку от бублика и от мертвого осла уши. Нам хотелось, чтобы Остап был не один — чтобы при нем были воспитанники, бендерята, будущие Остапы, которым он со временем передаст эстафету мошенничества. И они прошли через весь спектакль рядом с Остапом, подражая ему, повторяя его, даже — цитируя (часть афоризмов «великого комбинатора» перешла к ним). Пацаны участвовали и в устройстве конторы «Рога и копыта», и мистификации Корейко, и в «газовой атаке», и в критический момент спасали Остапа — ловили в рыболовную сеть мадам Грицацуеву, унося ее от возлюбленного «суслика». Словом, при Остапе появились верные помощники, оруженосцы — но верные до определенного момента. Они еще успеют продать своего учителя, когда в нем отпадет надобность. И в таком финале тоже будет своя закономерность, ведь Остап может творить только себе подобных, и там, где погоня за наживой определяет все, там подспудно зреет и предательство.
В работе над либретто нам хотелось сохранить лексику Ильфа и Петрова, ее своеобразие и изящное остроумие, характерное для этих писателей. Тут на помощь пришли фельетоны конца 20-х — начала 30-х годов, времени создания «12 стульев» и «Золотого теленка», комически-нелепые газетные и плакатные объявления, которыми заполнены фельетоны Ильфа и Петрова (их время от времени в эпизоде «На пляже» сообщал в рупор стоящий на спасательной вышке дежурный). Нами были выбраны те объявления, которые вызывали определенные ассоциации с нашим временем и несли заряд сатиричности, опосредствованно играя на главную тему произведения. Мы стремились сохранить дух творчества великих сатириков, заключенный в их классических образах, и в классическом, ставшем пословицами и поговорками, тексте.
И постепенно нашлась «золотая середина», уравновесившая музыку и разговорные эпизоды, без которой комическая опера не ощущалась как целое. Сократились разговорные эпизоды, но появился и целый ряд новых, не запланированных ранее.
И, наконец, появилось еще одно «действующее лицо», без которого не представляем мы «антилоповцев» — сама «Антилопа-гну». «Антилопа» прикатила в комическую оперу — прикатила, чтобы стать своеобразным драматургическим узлом, связавшим воедино Остапа, Балаганова, Паниковского и Козлевича. И поехала «Антилопа» с веселым «Матчишем» по всему спектаклю. Она доезжала до самого финала, заканчивая спектакль уже в качестве «черного ворона», увозившего в тюрьму «антилоповцев».
Но в разговорных сценах текста было с избытком. Ясно было, что его придется сокращать. Конечно, разговорные эпизоды, смонтированные на основе текста Ильфа и Петрова, жаль трогать: чуть не каждая фраза — словесное золото, драгоценный образец остроумия. Однако обилие текста вступало в противоречие с жанровыми особенностями всего произведения в целом. Наконец я переступил психологический барьер и стал сокращать текст разговорных эпизодов.
Трудность заключалась в нахождении верного соотношения таких разнородных понятий, как музыкальный и разговорный драматургический материал. Необходимо было найти их естественное взаимодействие, взаимовлияние, иначе внутри самого произведения будет заложен драматургический перекос. Хренников определил сложную проблему, стоящую перед создателем комической оперы: «Опера построена из номеров, сольных и ансамблевых; это дуэты, квартеты, хоры и короткие разговорные связки между ними — диалоги, монологи. Кое-кому все это может показаться похожим на оперетту, но отличие здесь — в масштабности событий и крупности характеров. Кроме того, разница в пропорциях музыки, пения и разговорных сцен. Большинство комических опер (и не только комических), которые сочинялись в прошлые века, так и строились — инструментальные, вокальные номера и диалоги. Даже гениальная «Кармен» Визе написана по этому принципу. Речитативы появились значительно позже. Вообще они более естественны в так называемой «большой опере», а в комической — замедляют действие и как бы «выпадают» из жанра»[66].
В либретто поиски этих соотношений затянулись. То «провисал» разговорный кусок, становясь неправомерно длинным, то он значительно сокращался, из него улетучивался смысл, и этот «обрубок» оказывался вроде бы совсем ни к чему.
Поиск оптимального варианта текста продолжался и во время первых читок с актерами. В необходимости этой работы я еще раз убедился теперь уже не как автор либретто, а постановщик спектакля. Как это ценно, когда новое произведение можно проверить в живом исполнении, когда текст, существующий лишь на бумаге, обретает живую плоть, тепло, энергию.
Разговорные эпизоды дозревали в процессе самих репетиций. Ведь зачастую непосредственно в актерском исполнении становится ясно — вот здесь фраза должна быть вдвое короче, ибо подтекст, выраженный в интонации, может заменить часть текста. Здесь — долгий «выход на репризу» и в результате — реприза не вызывает смеха, а значит, цели не достигает. Но тому долгожданному моменту, когда мы наконец оказались с актерами на сцене, предшествовал длительный подготовительный период. Многие часы проводили мы над партитурой оперы, определяя характер той или иной сцены, обсуждая различные варианты состава исполнителей.
И, конечно, в макетной у А. Ф. Лушина. Ветеран театра, создатель огромного количества спектаклей, крупный мастер, А. Ф. Лушин был увлечен работой, как и предыдущим нашим спектаклем «Доротеей». Мы очень подружились с ним, хотя наша совместная работа началась довольно-таки нервно — мы никак не могли уступить друг другу в решении некоторых сцен «Доротеи». «Вы у меня тридцать восьмой!» — сказал мне однажды в сердцах Лушин. Это он имел в виду количество постановщиков, с которыми ему пришлось работать. Я, не желая продолжать эти арифметические выкладки, промолчал. Тем более что таким количеством художников я похвастаться не мог. Споры наши у макета продолжались, было перепробовано много вариантов, в конце концов общее решение «Доротеи» мы нашли и с тех пор подружились.
А с «Золотым теленком» как-то стало выстраиваться быстро и легко, хотя задача перед художником стояла трудная: построить четырнадцать картин — без остановок и пауз, ибо спектакль был задуман как единый поток действия, стремительно развивающийся от сцены к сцене. И наплывы, и временные сдвиги, и параллельно развивающееся действие — словом, зрительный ряд приближался скорее к кинематографическому решению, чем к традиционно оперному. Такое решение должно было сообщить действию упругость и своеобразный сценический темпоритм, ибо это было заложено в партитуре Хренникова. Воплощение этого — задача, которая стояла перед режиссером, дирижером, актерами. Но и, конечно, перед художником. И решение было найдено Лунгиным — строгое, легкое, лаконичное,— где точно отобранная и верно найденная деталь говорит больше, чем подробно и скрупулезно воссозданный быт.
Лушина очень увлекала идея — создать настоящую «Антилопу-гну» — одно из действующих лиц спектакля. Где-то художник отыскал фотографии и даже маленький цветной макет настоящего «Лорен Дитриха» (которым в девичестве и являлась «Антилопа»). Конструкторы сделали чертежи, рассчитав будущую «Антилопу» так, чтобы она могла двигаться по сцене своим ходом (такова была специальная задача, поставленная перед ними). И вот настал день, когда инженеры и конструкторы «Антилопы» решили обкатать «чудо техники». Желто-голубая машина нелепого силуэта с огромными фарами — помесь большого жука с примусом — своим ходом выехала со двора театра. На ней красовалась пальма в зеленой кадушке (деталь, вычитанная мной у Ильфа и Петрова, запомнившаяся мне и впоследствии вошедшая в спектакль). «Антилопа» так и ездила по спектаклю с пальмой, в тени которой нежился Остап с экипажем «антилоповцев». Итак, «Антилопа» выехала со двора театра и оказалась на улице Горького. Собралась толпа, подошел изумленный постовой милиционер, кто-то фотографировал, брал интервью... На следующий день в «Вечерней Москве» появилась фотография «Антилопы» на улице и рассказ о том, что эта «заря автомобилизма» появилась на улицах Москвы со сцены Московского академического музыкального театра, где готовится новая комическая опера «Золотой теленок». Насколько помню, это был первый отклик в печати на новый спектакль. Курьезно, но так.
И. Мартынов:
«Опера построена на чередовании кратких, а иногда и более развернутых эпизодов. Их много, как требуется сюжетом, ведь перед нами проходят все главные персонажи романа, мелодически точно охарактеризованные куплетами, балладами и танцами. Эпизоды сменяют друг друга в стремительном темпе. Так создается веселое и остроумное представление, насыщенное вокальными номерами, чередующимися с танцем, а иногда и переходящими в него»[67].
Остап — тот главный узел, который решал весь спектакль. Мы старались смотреть на Остапа Бендера и его «подчиненных» глазами наших современников, людей 80-х годов. Обреченность, даже трагичность его образа, при всех смешных ситуациях и остроумнейшем тексте романов очевидна.
Такую линию хотелось провести через весь спектакль — от первого появления Остапа, начинающего оперу — Остапа, полного сил, надежд и юмора, заряженного огромным атомным зарядом энергии, уверенного в победе начатого им дела — погони за миллионом. В прологе спектакля Остап направляет при помощи Шуры Балаганова яркий прожектор в зрительный зал, убежденно выискивая подпольных миллионеров и сегодня, здесь, среди зрителей (такой «мостик» во времени был мне необходим, чтобы с первых же минут объяснить, что речь идет не о событиях 50-летней давности). И финал спектакля, где мы видели уже «переквалифицировавшегося» Остапа — Остапа без крыльев, без надежд, лишенного энергии и цели и, естественно, безотказного обаяния, которое всегда отличает удачников.
Так вот — Остап. Тот главный узел, который решал весь спектакль. Но Остап новый, еще незнакомый ни по сцене, ни по экрану — Остап из оперы — поющий, танцующий, оснащенный ариями, речитативом, монологами, дуэтами,— одним словом, оперный герой. Как при этом сохранить Остапа, который всем нам знаком по Ильфу и Петрову,— остроумного, стремительного, увлеченного, смело идущего на риск, не знающего сомнений в преодолении преград? И тут нам помогла музыка.
Композитор решил его образ многогранно. Вначале Остап — это сама энергия, динамизм, стремительность. Его монолог «Командовать парадом буду я!», озорные куплеты о «блюдечке с голубой каемочкой», танго «Под знойным небом Аргентины» — все это от первого Остапа — «великого комбинатора», неукротимо рвущегося к цели, верящего в свою удачу — активного, жизнерадостного. Но вот наступает кульминация всей его жизни: он достигает своего, он ликует, поет, танцует, катается по полу от радости. И не знает, что он достиг вершины горы, с которой отныне суждено ему катиться все дальше и дальше. Проходит совсем немного времени, и новые черты характера Остапа проявляются в музыке. Он лиричен, даже грустен. Ария Остапа о любви к Зосе Синицкой — это скорее раздумья о том, что ждет его в новом мире, куда направляет он стопы. И тревожно ему, и полон он невеселых предчувствий. И отныне совсем иным предстает перед нами в музыке Остап — лишенный прежней энергии, динамизма. Этот авторский прием оправдан всем ходом событий, и на наших глазах происходит рождение нового Остапа — теряющего свои позиции, безуспешно пытающегося найти себя в новой жизни. Его ариозо в сцене с Козлевичем — «Я слишком горд» — это уже почти признание своей ненужности — еще не поражение, но уже предчувствие его. И последняя капля — сцена с Зосей, Фемиди и их друзьями. Она решена композитором неожиданно. Вновь звучит в оркестре молодежный марш-лейтмотив новой жизни, который красной нитью идет через всю оперу. И рядом с этой радостной, звонкой музыкой странно как-то и жалко звучат фразы Остапа о миллионе, да и сам он становится нелепым со своим акушерским саквояжем, наполненным миллионом — его «голубой мечтой».
И тут Остап сдается. Дальше — логический вывод, единственно возможный для него — пора переквалифицироваться.
Он свистом вызывает пацанов — своих верных оруженосцев и воспитанников. И снимает Остап свою классическую белую фуражку, надевает ее на старшего пацана, повязывает ему свой шарф. И, благословив нового Остапа — свою смену, он подталкивает того — иди! словно направляя его в наше время. «За мной, дефективные!» — весело кричит пацан. И убегая, достойные ученики своего учителя крадут у Остапа акушерский саквояж с миллионом. В панике мечется Остап, пытаясь вернуть заветный саквояж. А в ответ вновь гремит марш, и вот уже отовсюду с песней идет молодежь, выполняющая на ходу физкультурные упражнения (это была своеобразная цитата из «Синей блузы» — приметы времени). Кидается прочь от них Остап, пытаясь найти выход среди этих многочисленных групп, идущих мимо, не замечающих его — ненужного никому. Но и это еще не финал спектакля. Финал ставил окончательную точку в завершении развития образа Остапа и в утверждении развития главной мысли спектакля...
Р. Косачева:
«Символичен финал спектакля. Через сцену, заполненную радостно веселящейся молодежью, под звуки жизнеутверждающей хоровой песни «Не забудь, товарищ, Родина Советов продолжает бой», под милицейским конвоем медленно увозят в «Антилопе-гну» сподвижников Остапа, очищая от всей этой накипи жизненное пространство. А сам Бендер, потеряв былую привлекательность, уныло бредет следом, помахивая дворницкой метлой... Проплыла мимо, рассеялась «голубая мечта» Остапа, разбилось блюдечко с голубой каемочкой, и, покидая сцену, великий комбинатор как бы смахивает с ее подмостков осколки разбитого вдребезги. А вокруг бурлит, ликует праздник жизни, на котором уже никогда не будет места ни комбинатору, ни его приспешникам»[68].
И вот, к слову, какие чувства вызвал финал спектакля, (да и весь спектакль) у другого критика.
В. Кухарский:
«Ходит и бегает по сцене «великий комбинатор» Остап Бендер, энергично руководит командой «Антилопы-Гну», а когда его проделки (именно проделки — не более того) изобличены, он, «переквалифицировавшись в управдомы», берет в руки метлу и уныло заметает следы исчезнувшего за кулисами макета «Антилопы» вместе с ее командой. Происходит все это в финале спектакля на фоне гимнастических упражнений неправдоподобно «положительной» молодежи во главе с Зосей Синицкой — некий бледный сколок популярной в свое время «Синей блузы»[69].
Комментировать высказывание раздраженного критика не буду — ибо немало различных мнений было высказано о спектакле и «за», и «против», и каждое мнение не прокомментируешь.
Развитие музыкального образа Остапа давало возможность логически построить динамику роли. Работа над образом предстояла очень сложная, не совсем привычная для оперных артистов. И когда мы приступили с двумя Остапами — А. Лошаком и В. Темичевым — к работе, то начинать приходилось с азов. В самом деле, Лошак, обладающий красивым тембром голоса,— Онегин, Роберт в «Иоланте», Елецкий в «Пиковой». Темичев тоже до этого практиковался в типично оперном репертуаре (правда, в некотором роде их обоих «развязала» работа над «Доротеей»). А тут — не просто привычная оперная партия, а роль, да еще какая! По трудности — высшей категории! И в музыкальном театре ее надо было не только сыграть, но еще и спеть, и станцевать, ибо образ Остапа решался в очень остром пластическом рисунке.
Дело прошлое, но в театре упорно твердили, что «Теленок» завалится из-за отсутствия Остапа. «Бендера в театре нет!» — категорически утверждала театральная молва. И основания для волнений на эту тему были — настолько непривычен оказался материал «Золотого теленка». Рождались различные планы — призвать на помощь известных солистов Большого театра, пригласить драматических актеров, игравших в кино Остапа. Словом, мнений и разговоров было множество. Но я с первых же встреч с нашими Остапами почувствовал их огромное желание работать и поверил, что мы добьемся успеха. Потому что готовность к работе — великая движущая сила в театре, неоднократно совершавшая чудеса.
Параллельно с музыкальными сценами актерами велось освоение разговорных эпизодов. Для этого я пригласил педагога по сценической речи (случай небывалый в оперном театре). Оперные певцы — что греха таить — порой не в ладах с дикцией. Она практически всегда оставляет желать лучшего. Донести до слушателя музыкальное слово действительно сложно. Но это очень важно и нужно! И вылечить эту «болезнь» может только работа, когда буквально каждая фраза становится, наконец, четко осмысленной по действию. Работа ежедневная и кропотливая, но без нее не обойтись. Если недостатки в дикции заметны в пении, то в разговорных сценах они увеличиваются многократно. Можно ли было допустить, чтобы классический, знакомый всем текст Ильфа и Петрова, невнятно и невыразительно произносился артистами? Представляете Остапа, промямлившего свое знаменитое и давным-давно всем знакомое: «Придется переквалифицироваться в управдомы» с неверными логическими ударениями, шипеньем и свистом согласных, заглатыванием конца фраз — ну, словом, с элементарно неграмотной сценической речью? Так вот, ежедневно Остапы — впрочем, как и исполнители других ролей — занимались с педагогами сначала упражнениями по исправлению дефектов речи, а затем, собственно, текстом роли.
Сценическое освоение музыкального материала, подготовительная этюдная работа, нахождение действенных задач, пластические занятия, скрупулезная работа над словом — весь этот в общем-то неординарный для оперного театра комплексный метод работы в течение четырех месяцев поглотил исполнителей целиком. И все-таки тревога за Остапа была до последних репетиций. Меня успокаивало, что в процессе репетиций с Лошаком что-то стало меняться в мягком, интеллигентном артисте, привыкшем изображать благородных романтических героев. Нечто остаповское стало мелькать в глазах Лошака — озорное, хищное, веселое. В нем появилась некая пружинистость, стремительность, без чего Остапа не сыграть,— стремительность в оценках, реакциях на любые неожиданности.
И вновь мне хочется сказать о Канделаки, для которого Хренников написал партию — роль Фунта (Тихон Николаевич неоднократно говорил об этом). Мы искали трудное решение, в основе которого была эксцентрика — колоссальная, не по возрасту (Фунту по Ильфу и Петрову 90 лет) энергия — при внешней неподвижности и неторопливости «зицпредседателя». Но ведь наш Фунт отныне становился оперным персонажем, оснащенным музыкальным монологом, куплетами, даже танцем. Да, танцем — но особым, решенным в рисунке, характерном для пластики данного образа. В своих куплетах-воспоминаниях «Как я сидел» Фунт, до того неподвижно стоявший, тяжело опираясь на два костыля, поддерживаемый «антилоповцами», внезапно откидывал их, пускаясь в какое-то залихватское танго с истинно провинциальным шиком (балетмейстер Д. Брянцев). Оттанцевав, Фунт тяжело плюхался на диван, подкладывал ладошки под голову и... мгновенно засыпал. И подобные эксцентрические неожиданности стали закономерностью в решении образа Фунта. Мы искали с Канделаки резкого решения образа, вплоть до гротеска. Фунт в нашем спектакле и стал гротесковым — парадоксальным, неожиданным, нелепым, смешным и злым одновременно. Все его действия были непредсказуемы, так же как и неожиданный залихватский танец, и неожиданный сон. И также неожиданно было поведение Фунта в эпизоде «Разгром «Рогов и копыт». Когда в последней картине появлялась группа активистов с лопатами и кирками, и под бодрый марш духового оркестра приступала к разгрому конторы, Фунт, сидя в роскошном старинном кресле, над которым красовался плакат «начальник отделения»... спал. Он просыпался только в тот миг, когда милиционеры надевали на него наручники. Тогда он, придя в себя, начинал трагикомический монолог, прощаясь с Остапом и «антилоповцами» перед очередной «отсидкой». На первой же репетиции монолога мы убедились, что «попали» в цель: когда Фунт, воздев руки к небу, отягощенные наручниками, мелодраматически запел «Опять я сел, теперь уже надолго»,— хоровой ансамбль покатился со смеху. Фунт, «звездными часами» жизни которого были аресты, был очень комичен в ощущении своей значительности — наконец-то он в центре внимания. Торжественно нисходил он по ступенькам к «Антилопе», увозившей его в тюрьму, и снисходительным помахиванием наручников прощался с толпой, собравшейся поглядеть на разгром конторы. Зрительный зал всегда провожал отъезд Канделаки аплодисментами.
Когда состоялась премьера «Золотого теленка», рецензенты дружно удивлялись и А. Мищевскому — Корейко. До «Золотого теленка» с именем Мищевского был связан совершенно иной пласт оперного искусства: Ленский, Водемон, Левко, Альмавива. Ведущий солист оперной труппы, обладатель сильного, редкого по красоте тембра голоса (в ГДР, когда мы были на гастролях, о нем писали «золотой тенор»), музыкальностью, актерским талантом, Мищевский создал целую галерею запоминающихся лирических образов. И вдруг — Корейко. Конечно, появление Мищевского — Корейко стало для всех неожиданностью, как и появление Лошака — Остапа. Здесь был определенный риск, но риск оправданный. Хренников довольно неожиданно решил музыкальный образ Корейко — у него много настоящего пения, с большими вокальными сложностями — трудной с вокальной стороны арией, развернутым дуэтом. Образ был решен в оперном плане убедительно, с высокой требовательностью к вокальной и музыкальной стороне исполнительства. И вместе с тем необычайно сложные требования предъявлялись к певцу с точки зрения актерского мастерства. Вместе с Мищевским мы искали разные грани характера Корейко, определяли социальные корни возникновения подобного феномена. И постепенно Корейко вырастал в крупную, даже страшноватую фигуру — человека умного, с размахом, вора масштабного, умелого невлюбленного. Если в романе линия влюбленного Корейко только намечена, в опере она значительно выросла — сказалась специфика оперного жанра. От этого в образе возникла некая драматическая нота. Оперный Корейко любит Зосю искренне и сильно, но ему мешает... подпольный миллион, ставший для него не только определяющей силой и целью жизни, но и несчастьем, ибо постоянно прятать свое богатство, дрожать за его сохранность, не спать по ночам от страха быть разоблаченным — вот главное, чем живет подпольный миллионер. Надо быть на грани помешательства от страха, чтобы отказываться от возможности сводить любимую девушку в кино, а вдруг такая «расточительность» покажется подозрительной. Вот эта предельная ступень страха быть пойманным и придала образу Корейко драматический, даже трагический оттенок. Он постоянно живет двойной жизнью: первая — но не первостепенная — жизнь незаметного совслужа, пришибленного своей бедностью, и вторая — главная — жизнь крупного хищника, полная тревог, опасностей, риска. Для актера здесь заключена основная трудность — ведь, по существу, он играет не одну, а несколько ролей, и каждая из них должна быть предельно убедительной и правдивой. Так родился целый эпизод — «Сон Корейко», где удалось выстроить в зрительном ряду и в звучании кошмары, преследующие подпольного миллионера по ночам... Звенела какая-то странная назойливая нота — то исчезая, то вновь появляясь, и в завывании потусторонних голосов, сдавленных воплей и стенаний проступали издевательские, какие-то сатанинские голоса, диктующие тексты бендеровских телеграмм: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду — ду-ду-у-у-у!» — уносилось эхо, словно в преисподнюю. «Грузите апельсины бочках — ах-ах!» — улетало эхо... И вдруг возникали руки — множество живых рук — они струились по стенам, как змеи, тянулись к кровати, на которой метался Корейко, извивались, корчились... А потом в окне и над крышей дома появлялись какие-то звериные морды — то ли лошадиные, то ли ослиные, слышался далекий то ли хохот, то ли ржанье, и вдалеке чей-то нахальный голос издевательски кричал: «Запятая! Миллион поцелуев!» Корчился, заворачивался в одеяло, падал на пол Корейко, просыпался в ужасе и так, лежа на полу, завернутый в одеяло, начинал петь ариозо.
Но Корейко не сдавался. Не такой это тип, чтобы признать свое поражение и сдаться. Проходили ночные кошмары, и вновь в нем просыпалась энергия, вновь бурная фантазия крупного жулика начинала бить фонтаном, и он, словно оборотень, превратившись в резиновую курносую рожу противогаза, перехитрив Остапа, скрывался в никуда. Так, шаг за шагом, выстраивали мы с Мищевским сложный образ, ставший для замечательного оперного певца этапом. В работе над образом много неожиданного нашел Мищевский, воплощая характер Корейко. Но при этом и новые грани своего дарования раскрыл артист, обогатив собственное мастерство еще одной чертой — острохарактерной манерой исполнения. Уверен, что новое качество, приобретенное Мищевским, еще скажется в дальнейшем творчестве артиста.
Трио «антилоповцев» — Паниковского, Козлевича и Шуру Балаганова — отлично играли В. Войнаровский, Я. Кратов и В. Свистов. При всем различии характеров (а каждый из них наделен яркой музыкальной характеристикой) все-таки «антилоповцы» — единое целое, ибо их объединяет общая цель — добыть миллион. И хотя персонажи «антилоповцев» достаточно индивидуальны, мы искали общее в них — то, что создало такой дружный «коллектив» жуликов. Ключом к такому решению явился квартет в сцене дележа денег, отнятых у Корейко,— то есть опять же музыкальный первоисточник. В квартете были впервые соединены различные музыкальные характеристики четырех образов («антилоповцев» и Остапа), в которых при всем их различии музыкальными средствами раскрыто основное — ажиотаж, одержимость, страстное желание вырвать наживу. Музыка объединила все метания персонажей, направив их в одно русло, сообщив им единый стиль и драматургический стержень.
В ряду нелепых фигур, возникающих в круговерти спектакля, заметна была и мадам Грицацуева, заглянувшая сюда из «12 стульев» (Л. Курдюмова и Э. Саркисян). В бешеной погоне за своим возлюбленным «сусликом» мадам Грицацуева, «знойная женщина — мечта поэта», каждый раз появлялась увешанная чемоданами и сумками с провизией (ибо она — всегда в пути, она объездила всю страну в поисках предмета своей страсти). В ее страстной арии «Он здесь! Он здесь! Верните мужа!», в исступленно-страстных танцах композитором был найден своеобразный сплав огромной энергии, влюбленности до отчаяния — влюбленности, доведенной до такой черты, за которой начиналась иная ипостась — сатирическая. Так выстраивалась пародийная линия в музыке оперы и, естественно, в спектакле.
Новый акцент, по сравнению с романом, получил в опере и образ Зоей Синицкой. «Нежная и удивительная», по существу, только намечена в романе. В опере композитор отвел ей значительное место, наделив выразительной любовной арией и запоминающимися дуэтными сценами. Она стала подлинной героиней оперы — сначала робкой, неуверенной и смешной — «вся в исканиях», потом слепо влюбленной в «великого комбинатора», затем разочаровавшейся в нем и вернувшейся к «своим».
Наши Зоси — Л. Казарновская, Л. Черных, Ю. Абакумовская — каждая по-своему, с присущей каждой индивидуальности особенностями, убедительно проводили в спектакле линию становления юного характера.
И последнее.
В одной из сцен Зося Синицкая провозглашала лозунг из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова — «Долой рутину с оперных подмостков!» Зал здесь всегда веселился. И хотя этот лозунг — из знаменитых полыхаевских печатей — тем не менее ряд рецензентов воспринял его как своего рода эпиграф к спектаклю. Не хочу комментировать такую ассоциацию, но думаю — в какой-то мере наш «Золотой теленок» этот лозунг выполнил.
О. Фельцман:
«На протяжении многих лет творчески связанный с музыкальным театром, могу сказать, что эта режиссерская работа радует не только оригинальностью творческих идей, но и незаурядным их воплощением»[70].
И. Попов:
«Хренников, его соавторы-либреттисты, постановочно-исполнительский коллектив полностью убедили нас в правомерности оперной транскрипции «Золотого теленка». Герои знаменитого романа начали новую — теперь уже оперную — жизнь...»[71].
Глава III. О телеопере и других музыкальных жанрах на телеэкране
«Как Джанни попал в ад»
К проблеме музыкального фильма я обращался неоднократно. Впервые меня заинтересовала эта проблема, когда я решил снять фильм-оперу. Это было в 1955 году. В то время на фильмы-оперы в кино смотрели иронически, никто их всерьез не воспринимал, и на лицах заядлых кинематографистов возникали полупрезрительные улыбки, когда при них заходила речь о фильме-опере. Но тем не менее удалось уговорить тогдашнего директора Мосфильма выдающегося кинорежиссера И. А. Пырьева. Он как-то неожиданно доброжелательно и даже весело отнесся к затее снять фильм-оперу, прибавив при этом, что не очень уверен в необходимости этого жанра для народа, но разрешение на съемку телефильма «Как Джанни попал в ад» по одноактной опере Дж. Пуччини «Джанни Скикки» дал. Думаю, что Пырьев был внимательнее других к моей идее потому, что сам сделал ряд музыкальных фильмов, и его знаменитая «Свинарка и пастух» с превосходной музыкой Т. Н. Хренникова вошла в золотой фонд нашей кинематографии, являясь по существу своеобразным мюзиклом, построенном на народной основе. Киномюзиклами являются и пырьевские «Земля сибирская», «Кубанские казаки».
— Давай попробуем, вдруг что-нибудь получится,— сказал Пырьев, когда меня допустили наконец к нему в кабинет, и он, впившись в меня своим пристальным взглядом, откровенно и не без юмора изучал вошедшего.
— А они что, петь все время будут? — неожиданно спросил он.
— А как же, Иван Александрович! Опера ведь!
— Ну, ничего себе! Полтора часа — открытые рты на экране! Ты придумай что-нибудь, а то — смотри, радость какая — языки да челюсти разглядывать.
Мне было 25 лет, я был преисполнен уверенности и сил, которые мне давала не только молодость, но и 3-летний опыт работы в театре, меня хвалили в прессе как режиссера (а в 25 лет это воспринимается особенно остро). Но фильм — совершенно особое дело. Правда, и здесь совсем крохотный опыт у меня уже был: вместе с Ю. Чулюкиным, тогда еще совсем молодым, мы сделали на Центральном телевидении две документальные ленты, хотя естественно, этого было явно недостаточно для кинематографических университетов. Получить картину на Мосфильме помог мне А. А. Гончаров — хотя в те годы он еще не был маститым и знаменитым, как сегодня, но уже руководил театром киноактера. Хорошо меня зная еще по ГИТИСу, он написал Пырьеву письмо, где заверил его, что я смогу снять музыкальную картину. Поручительство А. А. Гончарова сыграло решающую роль.
И вот я на Мосфильме. Странно было идти по бесконечным, путаным коридорам старого Мосфильма и встречать классиков советского кино — Ромма, Пырьева, Юткевича, Калатозова, Дзигана. И, конечно, самого любимого — заочного учителя моего, великого режиссера, гениального мастера Александра Петровича Довженко.
А работа над «Джанни Скикки» разворачивалась вовсю. Я ужасно волновался. К тому же ко мне, как новичку, пришедшему из театра, да еще из оперного (я тогда работал режиссером Большого театра) доверия не было. Я был «усилен» кинорежиссером, вернее, кинорежиссершей, «выросшей» из мосфильмовских ассистенток, также пробующей свои самостоятельные силы в кино впервые. К музыке она отношения не имела никакого и все время раздражалась, уверяя, что музыка мешает ей снимать.
Увы, дальнейшие события подтвердили это. Но Пырьев, видимо, и на «выросшую» киноассистентку не очень надеялся и назначил художественным руководителем фильма Юлия Яковлевича Райзмана, замечательного режиссера, создателя выдающихся произведений киноискусства. Пырьев справедливо полагал, что уж при Райзмане не вызывавшие доверия режиссеры явных глупостей не наделают и картина все-таки состоится.
Юлий Яковлевич деликатно и чутко опекал нас, давал советы, подсказывал интересные решения. Но с киноассистенткой мы общего языка не нашли — слишком уж различны были у нас цели... Поэтому в группе атмосфера сложилась довольно-таки нервная, скандалы вспыхивали чуть не ежедневно, и во многие вопросы подготовки и съемок фильма приходилось вмешиваться дирекции студии и даже парткому, а художественному руководителю Райзману не раз выступать в роли миротворца.
Но, несмотря ни на что, съемки шли, и картина в результате получилась неплохой.
Надо было решать проблему сложную — как делать фильм-оперу? Никаких традиций передо мной не было. Те несколько опытов, которые тогда имелись у нас в кинематографе, образцами служить не могли, ибо там тоже многое делалось ощупью, с известной долей робости перед музыкой, и каких-то серьезных позиций фильмы-оперы не завоевали. А тут еще телефильм-опера, где все заметнее, укрупненнее, даже как-то ближе, чем в кинематографе. Наверное, потому что прямо перед тобой в двух-трех метрах экран, и все как на ладони.
И я представил однажды телеэкран, и на нем — напряженные лица певцов, ходуном ходящие брови, широко открытые рты (мне не раз во время съемок вспоминался разговор с Пырьевым). Это было невыносимо видеть — даже в своем воображении.
С первых же дней я пришел к выводу, что необходим двойной состав исполнителей — певцы, чтобы записать фонограмму, и актеры, которые будут сниматься в фильме. Ведь, за очень редким исключением, певцы не могут выдержать крупный план в кино. И хрестоматийным стал пример с фильмом «Псковитянка», где великий Шаляпин оказался далеко не в лучшем виде (правда, в немом кино), о чем он сам неоднократно вспоминал чуть ли не с проклятьями. Все-таки это совершенно различные сферы, различная природа актерского исполнительства — оперный театр и кино, иные возможности, иные выразительные средства. Одно дело — актерство перед огромным залом, удаленность зрителей от исполнителей, другое — невероятная (по сравнению с театром) приближенность актера к зрителю в кино и телевидении, где крупный план дает возможность следить за такими тончайшими нюансами актерского исполнения, которые для театра просто немыслимы (тем более для оперного). Исходя из этих предпосылок я и решил делать фильм с двойным составом исполнителей.
Следовательно, фильм надо было поставить дважды: первый раз с певцами, второй — с киноактерами. Фонограмма в данном случае приобретала огромное значение, ибо в ней был заключен и смысл будущего фильма, его эмоциональное звучание, и драматургическое решение образов. Интонация, смысловые акценты, ритмика действия, взаимоотношения действующих лиц — словом, вся архитектоника будущего фильма была заложена в фонограмме. Музыкальный фильм (тем более фильм-опера) не может строиться на несоответствии музыки и зрительного ряда. Только в органическом соединении образа звучащего и образа зрительного может родиться синтез музыкально-драматургического действия. В противном случае музыка будет жить в одном измерении, зрительный ряд — в другом. Положительного результата это дать не может. Поэтому необходимо было привести к единому знаменателю музыкальную фонограмму и зрительный ряд.
Мои репетиции с певцами начались... с чтения сценария будущего фильма. Я подробно ознакомил певцов с замыслом фильма, с решением образов, даже с декоративным оформлением; ввел правило перед репетицией того или иного музыкального эпизода читать певцам описание этого эпизода из сценария, что помогало им ощутить природу действия данной сцены. Этот принцип оказался чрезвычайно полезным при создании фонограммы. К моменту записи спящая до этого момента фантазия певцов была разбужена, они точно представляли себе действие фильма, и фонограмма оперы соответствовала режиссерскому решению будущей картины.
Певцов удалось собрать отличных — солистов ГАБТа и Всесоюзного радио. Превосходны были М. Киселев — Джанни Скикки, М. Звездина — Лауретта, Г. Абрамов — Бетто, А. Матюшина — Цита, П. Демьянов — Нотариус и другие. Первоначально дирижировать согласился С. А. Самосуд. Мы неоднократно встречались у него дома, на 3-й Миусской. Я читал ему сценарий, мы проигрывали клавир и партитуру. С. А. Самосуд увлекся идеей осуществить сатирическую оперу на музыку Пуччини. Тончайший музыкант, он обратил мое внимание на пропущенные мной детали партитуры (в основном — оркестровки), имеющие большое драматургическое значение. Запомнилось мне, в частности, как оркестрована сцена, где родственники врут доктору, что покойник Буозо Донатти жив. Самуил Абрамович показал, как это оркестровано у Пуччини,— в оркестре нарочно создана такая дикая фальшь, что уши хочется заткнуть. В рояльном исполнении я не обратил внимания на эту деталь. «Они же нахально врут, невероятно фальшивят по сценической ситуации — и это отражено в оркестре»,— говорил, смеясь, Самуил Абрамович. Эта, казалось бы, незначительная деталь, идущая от композиторского замысла, натолкнула меня на общее решение всего фильма. И тогда в нем появилась исступленность, предельный накал алчности и взаимной ненависти, разгоревшиеся между родственниками вокруг громадного наследства флорентийского купца Буозо Донатти. Так, верно прочитанная партитура может направить режиссерскую фантазию по верному руслу, открыть многое в будущем фильме или спектакле — даже из-за незначительных, казалось бы, деталей авторского замысла.
К глубокому сожалению, С. А. Самосуд не смог участвовать в работе над этим фильмом из-за болезни. Затем бразды музыкального правления перешли к Е. А. Акулову, но и он в силу ряда причин от картины отказался. Кино — производство жестокое, ждать студия не разрешила, сроки поджимали, и я обратился к Б. Э. Хайкину. Блестящий музыкант, он тонко почувствовал партитуру оперы-сатиры и в короткий срок записал отличную фонограмму оперы.
Только после этого начались на Мосфильме актерские пробы. Они шли под сделанную нами с Б. Э. Хайкиным фонограмму. Актерский облик должен был совпадать со звучащим голосом, и вот здесь возникло много загадок и неожиданностей. Были случаи, когда отличный актер или актриса, вполне подходящие по образу, не попадали в картину, ибо их внешность не совпадала со звучащим голосом певца. Пришлось отказываться от ряда очень хороших актеров и лихорадочно продолжать поиски и пробы, ибо сроки уже были упущены, и производство, как говорится, «горело».
Наконец, пробы были закончены и утверждены худсоветом студии. На Джанни был утвержден Максим Греков из Вахтанговского театра, на Лауретту — молодая актриса МХАТ Р. Максимова, Цитой стала В. Мильтон. И лишь двое певцов из тех, что писали фонограмму, вошли в состав актеров, снимающихся в фильме: Г. Абрамов — Бетто, и П. Демьянов — нотариус. Они обладали выразительной внешностью и типажно подходили к ролям.
Много времени пришлось потратить на репетиционный период. Он отличался от репетиций обычного фильма. Прежде чем приступить собственно к репетициям, актерам пришлось выучить певческие партии — иначе снимать фильм было нельзя. Это был мучительный период и для меня, и для актеров. Клубок запутывался все больше и больше. Дирекция кляла меня, что я затеял двойной состав исполнителей, актеры, зубря с концертмейстерами свои партии, зверели с каждым днем. И тогда я решил все поменять. Занятия с концертмейстерами были отменены, и актеры стали осваивать свои партии прямо под фонограмму. И — странное дело — все стало получаться. Думаю, здесь сыграла роль эмоциональная сущность актерской природы. Вместо унылого выбивания одиноких нот из рояля зазвучала фонограмма, загремел оркестр, зазвучали живые голоса певцов, и случилось главное — драматические и киноартисты наконец-то ощутили действие, заложенное в музыке. Дело пошло. И я еще раз убедился, что надо пробиться к эмоциям актеров, разбудить их чувство, закованное и сдерживаемое многочисленными рамками нашего ремесла — теми трудноуловимыми профессиональными комплексами, которые всегда есть в каждом из нас, и этот профессиональный тормоз давит, тянет и мешает, ох, как мешает! Если удастся избавиться от него, пробить какой-то психологический барьер — работа с актерами становится радостной и спорой, в противном случае — вымученность, взаимное раздражение и в результате — тупик. В работе над «Джанни» этого, по счастью, удалось избежать. Параллельно с изучением музыкального текста актерами с ними начался застольный период. Каждый образ предварительно обговаривался, затем последовательно разбирался каждый эпизод. Я вспоминаю, что с драматическими актерами, неискушенными в музыкальной драматургии, было очень интересно работать над музыкальным материалом. Их интересовало буквально все: почему вот такое, а не иное звучание оркестра, почему здесь замедление, а там — неожиданное ускорение, почему вдруг высокая громкая нота, хотя по характеру сцены и актерскому состоянию здесь должен быть почти шепот? Эти музыкальные загадки оперные певцы разгадывают обычно сами, а с киноактерами пришлось все начинать с азов. Но такой метод — подробного оправдания каждой музыкальной «мелочи» — постепенно убедил меня, что в музыке мелочей не бывает,— все важно, все ценно и может стать импульсом к неожиданному решению. Репетиции стали полезной и нужной школой, ибо заставили меня более глубоко и подробно отнестись к смыслу, подтексту, задачам, предлагаемым обстоятельствам, то есть тем условиям, которые диктует музыка,— словом, ко всей «школьной» премудрости, так хорошо всем нам знакомой и так часто, увы, забываемой нами. И я замечал не раз — если музыка вскрывалась верно, то музыкальное действие возникало как-то само, естественно и логично и актерам давалось без особого труда. Но если музыкальный подтекст определялся неверно, надуманно — все летело кувырком и никакого логичного действия в музыке не возникало. И приходилось искать иной смысл, иные подтексты и задачи, чтобы выстроить верное действие. Это тоже был очень важный вывод, к которому я пришел в результате работы с драматическими актерами над музыкальным материалом.
Опыт, приобретенный в работе над «Джанни», пригодился через несколько лет, когда я снимал фильмы-оперы. И в осетинском фильме-опере на музыку Христофора Плиева «Возвращение Коста», и в фильме-опере «Совет да любовь» на музыку К. И. Массалитинова я применил тот же метод работы с актерами, выработанный во время моего кинодебюта на Мосфильме.
А в «Джанни Скикки», когда актеры разобрались с образами, задачами, подтекстами, почувствовали себя уверенно в музыкальном материале, начались репетиции отдельных эпизодов. Параллельно в новом павильоне Мосфильма строились декорации для нашего фильма (художник А. Берг), и операторы И. Гелейн и В. Захаров проводили «освоение». Собственно, у нас было полпавильона, а вторую половину занимали декорации какого-то то ли кафе — не кафе, то ли зрительного зала со столиками, где постоянно шумела большая массовка, одетая в карнавальные костюмы. Это молодой Эльдар Рязанов снимал свою «Карнавальную ночь», и совсем молоденькая студентка ВГИКа Людмила Гурченко пела звонким голосом «Пять минут, пять минут!» Эти «Пять минут» преследовали нас постоянно, пока шли съемки, вступая в соревнование с музыкой Пуччини.
Сюжет оперы-сатиры Пуччини либреттисты заимствовали из дантовского ада. И сам Джанни, и Буозо Донатти — лица исторические, флорентийцы, современники Данте. Род Донатти, по сведениям, был в родстве с Данте, и Буозо славился не только своим богатством, но и невероятной скупостью, за что Данте и усадил его в ад. А Джанни оказался в дантовом аду за свои мошеннические проделки — он жил тем, что постоянно надувал спесивых и жадных флорентийских обывателей. Но в опере он очень веселый и находчивый, и (опера ведь!) благородный отец, отдающий все ради счастья своей дочери.
Фильм начинается с длинной панорамы по своеобразным офортам, напоминающим «Капричос» Гойи или же мрачные видения Босха: на них сквозь мутный чад, заполнявший экран, плясали бешеный танец косматые ведьмы, бежали, не двигаясь с места, старики с поднятыми дыбом волосами, мелькали уродливые морды — какие-то полулюди — полузвери, кого-то черти поджаривали на костре, словом, ад, но ад не страшный, а скорее ироничный, с издевательской ноткой. Панорама доходила до офорта, изображающего пещеру ада и сидящего в ней Джанни Скикки. Внезапно офорт оживал, и неунывающий Джанни, весело подмигнув нам, начинал рассказ, как все с ним приключилось. Постепенно сквозь вой и шум адского вихря проступала музыка, и рассказ Джанни превращался в зримое действие — начиналась собственно опера. А в финале картины Джанни прощался с нами, напоминая, что за эти проделки Данте упек его в ад. «Разве справедливо?» — спрашивал нас неунывающий Джанни, садился на любимого осла и сопровождаемый далеким воем адского вихря уезжал по дороге в ад. А навстречу ему, с черного бездонного неба, издалека, постепенно появляясь, плыли офорты, с которых начинался пролог картины. Так заканчивалась по сценарию история о Джанни, так заканчивался и фильм. Эта закольцованность помогла выстроить архитектонику музыкального действия фильма.
Помню директорский просмотр картины. Часа два все ждали прихода И. А. Пырьева, нервничали, шепотом злословили, озираясь на входную дверь. У Пырьева в кабинете шло какое-то бурное заседание, туда никто не решался заглянуть. И когда он появился в просмотровом зале, вид у него был такой, что все приуныли. Начался просмотр. Иван Александрович сидел молча, не отрываясь от экрана. Он ни разу не улыбнулся, хотя в фильме было немало смешного и злого. Я с интересом смотрел не на экран, а на него, но понять по его лицу ничего было нельзя. Окончился просмотр. В директорском зале зажгли свет. Все сидели притихшие, ожидая полного разгрома (что было характерно для приема фильмов во времена директорства Пырьева). Но он молчал долго-долго, словно наслаждаясь нашим нетерпением и нервами, напряженными до предела. И трудно было понять его реакцию на увиденное. Потом Иван Александрович сказал мрачно одно только слово: «Гротеск»,— не пояснив, хорошо это или плохо для сатирического фильма. Затем подписал акт о приеме картины, поднялся и ушел, не попрощавшись. Я в изумлении смотрел, как вся группа кинулась друг другу в объятия, все поздравляли, целовались — оказалось, что это, по-пырьевски, прекрасная сдача картины...
Фильм потом много раз шел по Центральному телевидению, был послан за рубеж, показан на фестивале музыкальных фильмов в Италии, о нем писала центральная пресса. После показа фильма итальянскому зрителю я получал письма из Италии с благодарностью за картину. Словом, мой кинодебют можно было признать удачным. Пырьев хотел оставить меня на Мосфильме, предложил снять фильм-концерт, посвященный Международному фестивалю молодежи и студентов в Москве (весна 1957 года). Я, конечно, обрадовался, ибо решил всерьез переходить в кино. Была создана группа, началась подготовительная работа к съемке картины, но внезапно все прекратилось: руководством Министерства культуры РСФСР я был назначен художественным руководителем и главным режиссером декады якутского искусства в Москве и, несмотря на все мои мольбы и протесты, вынужден прекратить работу над картиной и выехать в Якутию почти на год... Когда в 1958 году я вернулся на Мосфильм, там уже все поменялось (в кино вообще чрезвычайно быстро все меняется — гораздо быстрее, чем в театре). В моей кинокарьере наступила большая пауза.
Опыт кинопоэмы о музыке и детях
Проблемы музыкального фильма продолжали меня волновать. Они не оставляли меня и во время моих постановок в театре, и огромных театрализованных зрелищ. Мучительно шли поиски темы для музыкального фильма, где музыка могла бы стать основой драматургии. И вот однажды...
Однажды, в 1964 году, мне попалась в журнале «Техника молодежи» маленькая заметка «Музыка и рост растений». В ней говорилось: «Два индийских ученых — Синг и Панниах — сообщают об обнаруженном ими влиянии музыки на рост растений».
Я ахнул. Это был ключ к музыкальному фильму. Фильму, где музыка должна была стать главным драматургическим стержнем. Фантазия заработала... Мы вместе с кинодраматургом Анатолием Галиевым и кинорежиссером Юрием Чулюкиным написали литературный сценарий будущего фильма. Киностудия имени Горького заинтересовалась нашим сценарием, фильм включили в план производства, но потом в силу целого ряда причин, которых в кино тьма-тьмущая, фильм не состоялся. Я до сих пор жалею, что и этот замысел попал в ранг «неосуществленных». Но к нему в свое время проявили интерес музыканты — композиторы и критики. Они помогли нам напечатать фрагменты из сценария в одном из номеров «Советской музыки» в 1965 году. Вот эти фрагменты. Мне кажется, они дают возможность представить, каким задумывался неосуществленный музыкальный фильм. Сейчас, когда так много сделано музыкальных фильмов, в том числе и для детей, этот сценарий может показаться старомодным, в чем-то знакомым. Но напоминаю — дело было 25 лет назад...
«СЕМЬ ЦВЕТОВ МУЗЫКИ»
От авторов
XX век поет, гремит взрывами, стонет, скрежещет. Планета окутана синкопами джаза, тревожными радиовоплями «SOS» и спокойными сводками о погоде. Время от времени прокатывается могучий вал симфоний — и снова хаос звуков.
Он стучится в сердца, уши, мозг маленьких человечков. И черные, серые, карие глаза их становятся мучительно задумчивыми. Они хотят понять: почему? что? зачем?
Ребенок стремится к гармонии. Во всем. Он входит в жизнь, как путешественник в неизведанную страну. Он перекраивает мир по-своему. И незнакомые люди становятся дорогими, и земля России — то добрая, то суровая — становится для маленького человека тем неохватным и бесконечно нужным, что называют Родина. И каждый благодарный человек поет ей свою песню. Пусть коротенькую, но свою.
Звук, цвет, музыка, слово, ритм, жест — все сливается в этой песне. Об этом — наша работа.
Молчание. Сумрачная чернота плоскости экрана. Робко, как капля весенней капели, падает первый звук. Он пробивает мглу — и вспыхивает, разорвав мрак, первая солнечно-желтая искра — звезда.
Крепнут, наливаются уверенной силой аккорды, словно разгорающаяся жизнь, гонят завесу мрака и небытия оранжевые, желтые, мерцающие звезды. И вот уже нет мглы — только, сопротивляясь, колеблются клочья сумрачно-серой завесы. И, как восход солнца, как первый крик ребенка, пробивают плоскость, соединяясь в единое, радостные лучи-созвучия.
Победный пылающий свет льется с экрана. И надвигаясь сквозь него, приближаются все резче и резче глубокие и чистые глаза ребенка. Смеется музыка. Ослепительное сияние солнца пронизывает трепещущую завесу.
Так должен начаться этот фильм. Главный герой его — задумчивый, лобастый мальчуган Кешка Смородкин,— занят довольно странным на первый взгляд делом. С магнитофоном бродит он по шумным улицам, собирает, как в копилку, шумы и звуки. Зачем? Заглянем в дом Кешки...
Комната была опутана проводами. Они соединяли, перекрещиваясь над паркетом, телевизор с большим и древним радиоприемником, радиоприемник с магнитофоном и концертным проигрывателем. Провода сходились к большому динамику, стоящему на полу. Здесь же валялись технические журналы в пестрых обложках.
Кешка постоял посредине комнаты, задумчиво оглядывая сложные агрегаты. Потом он снял с подоконника, залитого солнцем, небольшую примулу в горшке, поставил ее в центре комнаты, у динамика. Осмотрел цветок очень внимательно в лупу, измерил его высоту линейкой.
Снял, подставив стул, со шкафа красный фонарь, подключил его к радиоприемнику. Потом выдвинул ящик из шкафа, пошарил, не глядя достал лампу «синий свет» с никелированным рефлектором и подключил ее к магнитофону.
Опустил штору. В комнате стало темно. Только тонкий луч солнца, пробиваясь в щелку, уперся в лакированные черно-зеленые листья цветка.
Кешка защелкал выключателями — засветились таинственно желтые шкалы и зеленые индикаторы радиоприборов. Бросил красноватый луч фотофонарь. Скрестился с багровым темно-синий свет лампы. В их фокусе был цветок. Сильное радужное сияние хлынуло в темноту. Оно дрожало и переливалось.
Кешка лег животом на пол рядом с цветком. Закрыл глаза. Лицо его было сосредоточенным. Он вздохнул и — щелкнул последним выключателем.
Первым двинулся диск магнитофона
Могучие голоса «Богатырской симфонии» Бородина прорвали тишину
В них ворвалась, как хрустальное сияние, «Песня Сольвейг»
Ударил частушечный хор
Заголосили саксофоны
Комнату качнуло, как при шторме
Ураган звуков, жестокая и странная какофония загремела, распирая стены
Чисто-синий свет
Чисто-алый свет
Мешались
Сосед за стеной — длинный, как жердь, тощий Козодоев (с ним мы еще встретимся) — перекосил рот, отставил в сторону рюмку — он завтракал пивом, раками и четвертинкой — и, выгнув хребет, полосатый, в тигровой пижаме, заколотил руками в стену, беззвучно закричал.
Бросился к двери.
Во дворе появилась кешкина мама с хозяйственной сумкой. Доброе, усталое лицо. Она глянула в окно, раздвинула собравшуюся у подъезда недоумевающую толпу — побежала.
Козодоев молотил кулаками дверь на лестничной площадке и беззвучно раззевал набитую стальными зубами пасть. Мама отодвинула его, толкнула дверь — она была не заперта. Метнулась в комнату.
Зазвенел разбитый фонарь, все погасло и смолкло. Слетела с треском сорванная штора. Солнце хлынуло в комнату.
Кешка лежал на полу, закрыв глаза, и улыбался. Козодоев поднял его за ухо, заорал:
— Безобразник! Житья нету! До каких же пор?
Глаза Кешки, широко раскрытые, смотрели непонимающе. Длинное лицо Козодоева с тяжелым небритым подбородком надвигалось на него, рычало.
— Оставьте ребенка! — тихо сказала мама, оглядывая комнату.
Козодоев шумно вздохнул, пошлепал тапками к двери. Обернулся.
— Ежели это не прекратится, я приму соответствующие меры! — пролаял он. — Тоже мне — художественная самодеятельность!
Он вышел.
— Я за дверь, а ты опять за свое? — сокрушенно и непонимающе сказала мама.— У людей дети как дети, а ты у меня — чистое наказание... Не понимаю, что тебе нужно? Чего ты хочешь?
Кешка долго смотрел на нее. Глаза у него были печальными, строгими и осуждающими. Он потрогал, как живое, цветок. Тихо и упрямо сказал:
— Я хочу, чтобы все были добрыми... Даже товарищ Козодоев...
*
После неудачного «эксперимента» Кешка отправился во Дворец пионеров, чтобы привлечь к своим опытам оркестр тамошнего ансамбля. Для начала ему удается записаться в ансамбль. Во Дворце пионеров Кешка знакомится с недоверчивой девочкой Наташей и открывает ей первой цель всех своих стремлений. Они встречаются за городом.
Огромный пустырь на далекой окраине города был абсолютно безлюден. Где-то Далеко начинались кварталы новых домов. А здесь стояла только стеклянная коробка станции метро. Рядом с ней пасся на привязи пестрый теленок.
На голой безобразной земле только кое-где зеленели клочки травы.
— Вот! — сказал Кешка, вынимая из-за пазухи жестянку из-под леденцов.
В коробочке лежала свернутая бумажка. Девочка осторожно взяла ее, развернула, повертела... Это была вырезка из журнала.
— Это и есть тайна?
— Читай! — торжественно сказал Кешка.
— «Музыка и рост растений». Два индийских ученых — Сингх и Патриарх (Панниах — поправил Кешка недовольно) сообщают об обнаруженном ими влиянии на рост растений. По утрам вблизи мимоз они устраивали концерт продолжительностью 25 ми нут. Во время исполнения музыкальных произведений ученые наблюдали в микроскоп процессы, совершающиеся в протоплазме мимозы.
— И из-за этого ты меня позвал? — Она хотела уйти.
— Постой,— сказал Кешка,— ты просто ничего не поняла...
— Ну уж! — сказала девочка.
— Не спеши,— сказал Кешка.— Этого еще никто не знает, но я тебе объясню...
Он потер нос, почесал затылок, сел на землю.
— Ну, вот ваш ансамбль поет, играет... Сколько уже времени? Ну, спели вы, по играли... Вам похлопали... А потом все расходятся по домам... Теперь скажи: какая от вас польза? Всем!
— Всем? — переспросила девочка.— Все радуются и всем приятно.
— Приятно! — сказал Кешка.— Приятно — это ерунда! Сегодня приятно, а завтра уже забыто... Это что? Обыкновенная музыка!
— Вся музыка — необыкновенная...— сказала девочка.
— Ох, и упрямая ты!
— Между прочим, меня зовут Наташей!
— А меня — Кешка!
Они церемонно поздоровались. Почти как взрослые. На них с интересом смотрел лопоухий теленок.
— Понимаешь, — сказал Кешка. — Я дома уже опыты проводил... Стимулировал... Цветок в горшке... Даже в приемник его запихивал...
— Растет быстрее?!
— Вырастет! — убежденно сказал Кешка.— Мощности не хватает. Очень мне нужен ваш ансамбль. Очень, Наташа!
— Не понимаю, чего ты хочешь?
— Я?
Кешка огляделся. Перед ним лежал лишайный пустырь.
— Погляди,— сказал он.— Разве так можно, чтобы пусто и некрасиво!
Он схватил ее за руку.
Они побежали по огромному пустырю. Два маленьких человечка. Остановились.
— Я тебе сейчас все покажу! — Кешка закрыл глаза.— Ты видишь!
— Там теленок, здесь — пустырь! — хлопала ресницами Наташа.
— Да не так... Закрой глаза!
Она закрыла.
— Теперь видишь?
Красноватая тьма рассеивалась. Перед ними был все тот же пустырь, но не совсем тот. Все также стоял вдали теленок и недоуменно глядел на...
Каре оркестров и музыкантов, застывших, как полк перед маршем
Впереди, сжимая древко алого знамени, словно полководец перед боем, стоял Кешка
Наташа рядом — с пионерским барабаном, мальчик — с золотым горном
За ними развернулся в колонну весь ансамблевый оркестр
По флангам пионерского ансамбля стояли удивительные оркестры
В одной колонне были только трубачи
Тысячи трубачей
В другой — только скрипачи
Тысячи скрипачей
В третьей — только литавры
Тысячи литавр
В четвертой — как перед пахотой — тысячи роялей на колесиках
В пятой — только арфы
Тысячи арфисток до самого горизонта. А еще дальше — колонны балалаечников, домристов...
Необыкновенная тишина стояла над миром
Впереди до горизонта расстилалась унылая земля
По ней в ряд шли мальчики с лукошками — тысячи мальчишек — и одинаковыми движениями бросали семена
За ними в ряд шли девочки с лейками — тысячи девчонок — и одинаковыми движениями поливали землю
Они исчезли
До горизонта лежала земля
Горнист бросил звонкий клич
Наташа подала сигнал атаки
Озорно, солнечно, дерзко грянула неслыханная музыка
Трубили тысячи трубачей
Взмахнули смычками тысячи скрипачей
Ударило в литавры
Вздохнули, пробуждаясь, арфы
Отозвались тысячи роялей
И — двинулся вперед, ведя мелодию, пионерский оркестр
Он уходил вперед, к горизонту, и играл...
А за ним рдело широкое полотнище — целая река пурпурно-алых гвоздик
Цветы нетерпеливо дрожали, стремительно тянулись к солнцу, трепетали
На голом пустыре струился алый поток гвоздик
Уверенным движением руки Кешка двинул вперед колонну роялей
Они развернулись широким строем, обрушили целые потоки мощных стремительных аккордов — и понесли свою мелодию
А за ними струилась прекрасная, атласно-белая полоса — река лилий
Кешка обернулся к трубачам и двинул их армаду вперед
Запела тысяча золотых труб
Трубачи промаршировали по пустырю
За ними вспыхнули, закачались, сияя золотом, подсолнухи
Ударили, выходя в наступление, литавры
Отозвались тысячи арфисток
Кешка оглядел поле битвы в подзорную трубу
Потом он взял Наташу за руку, они разбежались и... взлетели!
В синее солнечное небо!
Пустырь ушел вниз.
Только теперь это уже был не пустырь
В причудливом прекрасном узоре сплетались и расплетались полосы всех цветов радуги
Они поднялись повыше
Белая тучка на мгновение прикрыла смеющихся счастливо ребят
А когда они поднялись над нею — внизу открылась гигантская окружность земного шара, покрытая, как драгоценным ковром, цветами...
Могучий хор человеческих голосов поддерживал и нес над землей ребят.
— Теперь ты видишь? — торжествующе крикнул Кешка, оборачиваясь к Наташе.
— Видишь?
Она открыла глаза. В них была задумчивая улыбка. Теленок щипал чахлую траву.
— Ух ты! — восторженно выдохнула девочка...
— Нужно только начать...— сказал Кешка.— Одному мне не справиться...
Она протянула ему руку.
Он тоже.
...К сожалению, единомышленники поссорились в тот же день. Наташу рассердил чисто практический интерес Кешки к музыке. Ведь Кешка собирался даже рыбу ловить на «музыку»!
Однако Кешке было не до переживаний. Вскоре он глубоко заинтересовался личностью своего соседа по лестничной площадке Козодоева, который частенько выговаривал в адрес «современного ребенка»:
— Сечь их надо... Вот меня секли... Стал человеком... А с нынешними миндальничают... Не тот нынче ребенок. Не тот.
И еще:
— Музыка!.. По мне что они есть — эти песенки, что их нет... Была бы моя воля — я бы запретил. И по радио бы, чтобы не орали, и вообще... Ну, ежели человек выпил на радостях — тогда дозволял бы... Ежели душа просит... А так — запретил бы!
Убежденный во всемогуществе музыки, Кешка по-своему принялся «перековывать» соседа.
Однажды вечером, когда мать ушла в ночную смену, он прислушался к тому, как хлопнула дверь, соскочил со стула, полез под кровать. Здесь уже лежала ручная дрель, моток проводов, совок.
В стене чернела дыра.
Кешка взял дрель и, сопя, начал осторожно сверлить стену, отковыривая время от времени штукатурку.
Товарищ Козодоев, сидя на кровати и подвинув к себе стол, уплетал котлеты с огромной сковороды. И запивал их пивом.
В комнате было тихо.
Кешка, сидя под кроватью, в своей комнате, отковырнул последний слой штукатурки, осторожно, не дыша, расширил дыру. В отверстие было видно подкроватное пространство Козодоева и его волосатые ноги в шлепанцах. Неожиданно Кешка поморщился, собрался чихнуть, зажал испуганно рот и тонко пискнул.
Товарищ Козодоев поглядел под стол.
— Мыши! — убежденно сказал он. Поднялся и, собрав посуду, вышел из комнаты.
Кешка приложил наушники к уху, послушал. Негромко звучал Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. Кешка просунул руку с наушником, от которого тянулись провода, в дыру, положил наушник на пол под кровать — уже в комнате Козодоева.
Прикрыл дыру подушкой.
Вылез из-под своей кровати. Остановил магнитофон.
Наушник лежал на полу. Безмолвный.
Товарищ Козодоев вернулся в комнату, позевал и, потянув руку, щелкнул выключателем ночника. Комната погрузилась во мрак. Храп раздался мгновенно. Сытый и безмятежный храп Козодоева.
В ванной Кешка, в одних трусиках, чистил на ночь зубы, умывался. Он вошел в комнату, шагнул к стене, прислушался.. Сквозь камень пробивался храп.
Кешка включил магнитофон. Чуть слышно вступила музыка. Он лег на кровать, положил поудобнее подушки и, широко раскрыв глаза, стал слушать.
В темной комнате Козодоева еле слышно звучал оркестр. Храп прекратился. Некоторое время темнота недоуменно молчала. Потом товарищ Козодоев включил лампу и сел. Еле слышно звучала музыка. Товарищ Козодоев прислушался настороженно, лег, накрыл голову подушкой. Музыка звучала страстно и зовуще.
Козодоев поднялся. Оглядел комнату. Она была пуста.
Поводил перед глазами пальцем, следя за ним. Убежденно сказал:
— Началось!
Подошел к буфету, вынул бутылку спиртного.
— А все она! Проклятая!
Подошел к раскрытому окну и выбросил бутылку. Послышался звон разбитого стекла, кошачий визг, чьи-то торопливые шаги. Вскоре двор затих.
Козодоев прислушался. Музыку струили стены. Он застонал. Сорвал с вешалки полотенце, закрывая уши. Прислушался. Было тихо.
Довольный, улыбнулся. Поводил пальцем перед глазами: «Мерещится». Лег на кровать. Прислушался. Еле слышно, но упрямо звучала музыка. Козодоев взлетел как ошпаренный. Забегал по комнате. Всхлипнул.
— Началось!
Мерно вращался огромный диск магнитофона. А Кешка сладко спал, положив кулачок под щеку.
И снился ему странный, темный сон...
...Широко распахнулись двери. Из черного смерча возник товарищ Козодоев. Он был в полосатой пижаме, сапогах, со шпорами и высокой черной каске. На плечах пижамы чернели эполеты.
— Встать и слушать! — крикнул он.
Кешка встал рядом с кроватью.
Козодоев крикнул:
— Сегодняшнего числа повелеваю: Не петь! Не звучать! Никому! Ничему! Никогда! Нигде! Такая мне дадена власть! Такая моя воля!
Козодоев сделал магические пассы. Кешка засмеялся.
— Это вы, товарищ Козодоев? А я думал, это не вы...
— Я не Козодоев...— свистящим шепотом сказал Козодоев.— Я великий повелитель, маг и волшебник... Зачем птицы поют? Какая польза? Зачем люди играют? Расход энергии...
Козодоев завертелся в туманном смерче, заколдовал:
— Тише — Тише. Тишина-а-а... Гробовое — тс-с-с... молчание...
— Постойте! — крикнул Кешка.
— Зачем? — сказал Козодоев.— Разве ты этого не хотел? Посмотри, как все прекрасно!
Стены исчезли
Теперь Кешка стоял на улице черного, немого города
Было зябко, и он поежился
На дальнем углу чернела чья-то фигура
Кешка испуганно и медленно пошел к ней
Мерно, как капли, звучали его шаги
Гитарист в черном, опустив голову, смотрел на гитару, лежавшую у его ног
Кешка поднял гитару и протянул ему
Парень грустно покачал головой, ощипнул струны
Вместо аккорда послышалось змеиное шипение и вздох
Рядом еле слышно всхлипнули
Девушка в черном подняла залитое слезами лицо
Ветер вырвал из ее рук ноты и понес их, белые, как подбитые голуби, в ущелье улицы
Кешка бросился за ними. Он бежал долго, ловил их, но они улетели.
На широкой пустой площади сидел симфонический оркестр. Дирижер грустно дирижировал палочкой: «Си-бемоль, ми-бемоль, фа...» — негромко хором скандировали музыканты, глядя на палочку.
Белым пламенем беззвучно и дымно горел огромный костер из виолончелей и скрипок. Лежали изуродованные инструменты.
Кешка испуганно застыл, раскрыв глаза.
«Си-бемоль, ми-бемоль...» — скандировали музыканты, переворачивая листы нот.
Ветер сорвал их и понес дальше
Кешка побежал
Птица сидела на ветке
Она раскрыла крылья и пыталась запеть
Но из груди вырвалось кваканье лягушки
Глаза Кешки, измученные и страдающие...
...На черном, мокром асфальте без музыки танцевала балетная пара.
Она кружилась беззвучно и мрачно
...На высоком постаменте стоял сверкающий концертный рояль. Сильные пальцы бегали по клавишам
Они не звучали
Старик во фраке, с львиной гривой опустил голову
Козодоев, стоявший рядом с блестящим топором палача, ухмыльнулся, подняв топор.
— Стойте! — закричал Кешка.— Стойте!
— Пусть...— сказал старик.— Разве ты не знаешь? Музыка умерла...
Козодоев опустил топор.
— Не хочу! Не хочу! Не надо! — яростно закричал Кешка...
...Из тумана выплыли и утвердились знакомые очертания комнаты. Ярко играло утреннее солнце. «Начинаем утреннюю гимнастику!» — бодро сказало радио. И грянул марш.
Кешка облегченно вздохнул, бросился к радио. Настроил его.
Стирая сон, провел рукой по лицу.
Закричал — запел:
— «На зарядку, на зарядку!» — прислушался сам к себе, засмеялся. Затанцевал по комнате. Бросился к окну, наслаждаясь пением.
Уставился на магнитофон. Лента, закончившись, шуршала на вращающемся диске. Кешка выключил магнитофон. Подбежал к стене. Приложил ухо.
— Спит...— сказал он с ненавистью.— Колдун!
Когда ранним утром Кешка с авоськой, в которой лежали пустые молочные бутылки, вышел на лестничную площадку, первый, кого он увидел, был Козодоев. С обмотанной головой, в пижаме и поверх нее пальто, он храпел, сидя на ступеньках и прижавшись к батарее парового отопления.
Кешка постоял, осторожно тронул его пальцем.
— А? Что? — вскрикнул Козодоев.— Что надо?!
— Почему вы здесь спите? — недоуменно спросил Кешка.
— Не твое поросячье дело! — сказал Козодоев и повел пальцем, следя за ним глазами.
— С вами что-нибудь случилось? — спросил с надеждой Кешка.
— Ничего со мной не случилось! — сказал Козодоев.— Просто вышел... Свежим воздухом подышать...
Он вошел к себе и хлопнул дверью.
Кешка вздохнул:
— Не перековался!
Он вернулся в свою комнату. Полез под кровать.
Товарищ Козодоев стоял в своей комнате и, склонив голову, прислушивался.
— Не звучит! — радостно сказал он.— Мерещилось — и... завальсировал по комнате, запел довольно приятным ликующим баритоном: «...В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир сотни тысяч цветов»
— Помогло! — изумленно сказал Кешка под кроватью, вытащил из дыры провода и наушники, заложил дыру кирпичом...
Улицы шелестели шинами троллейбусов, фыркали автомоторами. Кешка бежал по тротуару, прыгая с ноги на ногу,— в руках авоська с молочными бутылками и батоном.
У стеклянной коробки нового магазина — на забеленных изнутри стенах было написано «Ремонт» — рабочие сбрасывали из грузовиков швеллер, листы жести.
Падая на тротуар, куски металла столкнулись, звеня, родили странное мелодичное звучание.
Кешка замер, прислушался сам к себе, присев, ударил по металлу камнем, металл запел, Кешка просвистел созвучие.
Рядом с грохотом ударили перфораторы. Рабочие ломали асфальт.
Кешка поморщился, пошел через улицу, остановился, задумавшись.
Сквозь шум пробилось знакомое созвучие.
Мимо, гремя, скрежеща двигались машины. Свистел постовой. Кешка промурлыкал песенку. Но это была не та песенка. Он подумал, поглядел на авоську, отщипнул от батона мякиш, скатал в ладонях два шарика и заткнул ими уши.
Мир погружался в тишину.
Кешка даже зажмурился от удовольствия. Беззвучно проплыл мимо толстый и важный троллейбус, беззвучно свистнул, надувая щеки, милиционер, беззвучно проехал грузовоз со стеновой панелью в кассете.
Мир погрузился в молчание
Все было готово к исполнению
Глаза Кешки заискрились смехом
Он повесил авоську на столбик островка безопасности, нахмурился, сосредоточился и поднял руки
Он указал на троллейбус
Тот низким бархатным басом начал мелодию
Взмах руки...
Песню — и узнаваемую, и неизмеримо окрепшую — начала петь улица, весь мир
Нежно и тонко, как флейта, ее приподняли две разговаривающие девушки
Поддержал шедший через улицу солидный человек с портфелем
Уточнил раскрывший рот постовой милиционер
Хрустальным, мелодичным звоном электронного инструмента запел молот рабочего, дробящего камень.
Кешка поднял голову
Над ним висели, как струны, троллейбусные провода...
Он взмахнул рукой и...
Они отозвались контрабасно, рояльно и арфно
Их поддержали басами окутанные дымом, как слоны, «Мазы»
Мелодия крепла, играла как кристалл, росла
Милиционер недоуменно смотрел на странного мальчика — потертые вельветовые шортики, рыжий ежик — который, стоя посреди улицы и закрыв глаза, дирижировал невидимым оркестром.
Беззвучно, образуя пробку, остановились машины. Из них глазели и что-то беззвучно кричали любопытные. Кешка поднял руки и энергично, собирая воедино разноголосно звучавший мир, приподнял песню...
Милиционер постучал регулировочным жезлом по его плечу. Что-то сказал, открыв рот. Но вместо голоса прозвучала труба, поющая все ту же песню. Кешка одобрительно поблагодарил его кивком и повернулся...
Через всю улицу ехали в коляске близнецы.
Вероятно, они ревели.
Вместо рева нежно звенела та же мелодия.
...А потом милиционер и Кешка стояли на тротуаре.
Кешка вынул из уха шарик.
Гул, шум, грохот улицы вошли в него.
— Ты же мальчик... А нарушаешь...— сказал милиционер.
— Я не нарушал...— тихо и упрямо сказал Кешка.— Я слушал музыку...
— Слушать музыку нужно в специально отведенных местах...— строго сказал милиционер.— И откуда здесь музыка?
— А вы разве не слышите?
— Я слышу то, что положено слышать...
— Они поют! — сказал Кешка счастливо.
— Кто?!
— Все!
Кешка взмахнул руками.
И улица сквозь шум отозвалась знакомой музыкой.
Хотя вскоре Кешка понял, что музыка нужна и хороша сама по себе, стремление использовать ее в конкретных целях, стремление улучшить при ее помощи этот мир не исчезло.
В гастрольной поездке ансамбля пионеров по стране окрепла его дружба с ребятами. В одном из колхозов однажды ночью ансамбль вышел на поле и долго играл над ростками свеклы, «стимулируя» их рост. Ночной сторож с перепугу начал палить в небо. Ансамбль разбежался. Вывихнув ногу, Кешка попал в сельскую больницу.
Полная докторша стояла у кровати Кешки и накапывала в мензурку лекарство. Он с интересом следил за нею.
— Теть...— сказал он.— Вы смелая?
— А что?
— Давайте с вами всех больных лечить по-новому.
— Сначала ты у меня выпьешь капли по-старому.
Кешка выпил.
— Я серьезно,— упрямо сказал он.— Мы с вами будем новаторами. Про вас в газете напишут.
Врачиха смешливо фыркнула.
— Как это?
— Давайте всех лечить музыкой...— сказал Кешка.— Я в одном журнале читал: ведутся такие эксперименты...
— Спи лучше!
Вышла.
Кешка задумался, закрыл глаза — представил:
Он, Кешка, в белом халате, с медицинским зеркалом на лбу, стоял в зубоврачебном кабинете. Вошел хныкающий Сенька с подвязанной щекой. Из глаз его катились слезы. Он широко разинул рот и промычал от боли.
Кешка заглянул ему в рот:
— Зубки? Сейчас пройдет!
Сенька уселся в зубоврачебное кресло. С ужасом поглядел на шприцы и зловещую бормашину.
Кешка небрежно взмахнул, и машина, как по волшебству, исчезла.
Он поколдовал еще немного, и в кабинете появился ребячий квартет скрипачей. Кешка раздвинул пошире Сенькин ротик. Обернулся к квартету, взмахнул руками. Квартет запел нежно и успокаивающе. Целительно-оптимистическая музыка его звучала недолго. На мордашке Сеньки подсохли слезы. Кешка остановил квартет.
— Все! — гордо сказал он.— Вы здоровы!
Сенька потрогал щеку, засмеялся, сорвал повязку и побежал вприпрыжку прочь.
— Следующий! — крикнул Кешка.
Вошел новый больной, толстый мальчик с загипсованной ногой, опиравшийся на костылек.
Он сел в кресло и задрал ногу. Кешка приложил к ноге стетоскоп, послушал. Призывно махнул руками. В кабинете вместо квартета появился духовой оркестр. Сияла медь.
Грянул жизнерадостный марш.
Он звучал не долго.
Больной осторожно наступил на больную ногу, затем начал плясать, бросился к Кешке с благодарностью.
Кешка солидно пожал ему руку и вышел в обход.
Он вошел в соседний кабинет. Там стояла, высунув язык, девочка. Полная докторша играла на тромбоне.
— Правильно...— кивнул важно Кешка.— Продолжайте. В тональности си-бемоль мажор...
Затем он появился в операционной. Хирург и медсестры играли на кларнетах над больным, который, лежа на операционном столе, читал газету. Кешка пощупал пульс больного, кивнул:
— Продолжайте!
Стояла в зелени сельская больничка. В окно было видно, что повсюду играют врачи: на баянах, балалайках, трубах.
С одной стороны в больничку входили немощные. С другой — выходили, делая под музыку гимнастические упражнения, смеющиеся люди.
Много еще приключений пережил мальчик. Выздоровев, он догнал на далеком юге свой ансамбль.
Поздним вечером багровели, угасая, угли костра. Пальцев, руководитель ансамбля, шел по палаточному городку, заглядывая в палатки. В Кешкиной задержался. Здесь спали четверо. Лица троих были спокойными. Кешка видел во сне что-то страшное, скрипнул зубами, застонал.
Пальцев подул ему в лицо, прогоняя темный сон...
А Кешке виделось:
Огромное просторное поле.
Он стоял с горном посредине его и смотрел на горизонт. Оттуда тянуло дымом. Там в ряд стояли солдаты без лиц.
Он услышал мертвящую железную («ржавую» — подумал Кешка) музыку. Во сне Кешки она стала страшнее и мертвенней.
В шарманочном марше, лязге и скрежете армада двинулась на Кешку.
Он оглянулся. Позади лежала пустая земля.
Тогда он поднял горн и бросил солнечный клич атаки.
Грянули барабаны
Зазвенела песня о барабанщике
Армия пионеров начала марш вперед
И — побежали прочь безликие солдаты
И — упали на землю черные их знамена
И — рассеивая дым, встало над полем битвы солнце
А Кешка стоял на черном штандарте на холме и оглядывал поле битвы в подзорную трубу
Он поднял руки
И — вмиг перед ним выстроилась в хоры и оркестры ребятня
Родилась и, гоня мрак, окрепла золотисто-солнечная упругая мелодия
Песню подхватили белые березы
Басами громыхнули цехи завода
Понес в синь-синеву светлую песню стремительный, как стрела, самолет
Из небытия выросла белоголовая Ключевская сопка
Вулкан запел низко и торжественно
Тонко отозвались горные реки, затрубили белопенные водопады, в причудливом сплетении картин наливалась силой симфония мира и радости
Поднималась округлость земного шара навстречу песне детей
В голубом просторе медленно и важно поворачивался земной шар
Он сверкал, как драгоценность, светился созвучиями и пел, улетая в звездное пространство
Все вперед и вперед
...Музыка воплощала вечную борьбу человеческого сердца с мертвящим холодом небытия. Это была музыка, которую мог написать только тот, кто остро чувствует биение времени — трудного и радостного времени битв человечества за светлый солнечный будущий мир.
...Звучит, зовет музыка.
И надвигаясь сквозь добрые голубые звезды, смотрят на нас глубокие и чистые глаза ребенка...
Дирижер
Когда мы в 1972 году со сценаристом М. Капустиным решили сделать фильм о Евгении Федоровиче Светланове, то долго придумывали, что должно стать основой конструкции будущего фильма. («Дирижер» был нашим первым совместным фильмом из будущей серии фильмов о творческой лаборатории выдающихся музыкантов. В дальнейшем мы сделали документальные фильмы о Тихоне Николаевиче Хренникове, Давиде Федоровиче Ойстрахе.)
После многочисленных вариантов мы остановились на том, что фильм надо построить на сопоставлении размышлений дирижера о своей профессии, о том, как зарождается исполнительский замысел и как он воплощается непосредственно в произведениях самых разных музыкальных жанров. Эта двуплановость драматургического решения давала возможность ввести в фильм много музыки и показать творчество Е. Светланова в самых различных ракурсах.
Помимо многих сложностей творческого характера, передо мной, как перед режиссером фильма, стояла задача, которую прежде мне решать не приходилось. Я уже снял до этого 10 музыкальных картин, но здесь столкнулся с задачей чрезвычайной — почти весь фильм в кадре будет дирижер и симфонический оркестр. Как снять, а главное — смонтировать такой, я бы сказал, антикинематографический материал? Ведь это же не радиопередача, а фильм, и, значит,— зрительный ряд в нем должен быть выстроен убедительно и увлекательно, иначе все наши благие намерения рассыплются в прах. В фильме «Дирижер» необходимо было найти зрительный эквивалент музыке, звучащей в фильме, на три четверти состоящей из оркестровых эпизодов. Основой фильма были размышления Е. Ф. Светланова о своей профессии и собственно дирижерское творчество выдающегося мастера. Но как смонтировать часовой фильм, лишенный прямого сюжета, увлекательности положений, развития действия (ибо «Дирижер» — фильм на особую тему, рассказывающий о творческой лаборатории дирижера, и поэтому все внешнее действие только отвлекало бы от основного, глубоко скрытого от посторонних глаз творческого процесса)?
Три четверти фильма, где через музыку раскрывалось творчество Светланова, становились главными в обрисовке такого сложного, многозначного явления нашего искусства, как Евгений Светланов.
Начался съемочный период. Интенсивно шли съемки оркестра — коллектив был занят репетициями новых программ, концертами, записями, поэтому снимать оркестровые эпизоды приходилось в предельно сжатые сроки. Съемки оркестра велись одновременно шестью камерами, настроенными на определенные оркестровые группы. Одна камера постоянно «не сводила глаз» с крупного плана дирижера, фиксируя малейшие нюансы его поведения в процессе дирижирования. Но снимать шестью камерами несколько дублей подряд я не мог — не хватило бы пленки и на четверть фильма, так как лимит пленки всегда ограничен и строго регламентирован. Поэтому пришлось сделать специальную радиосвязь пульта управления с кинооператорами, и во время съемок я с пульта управления руководил включением кинокамер, давая сигналы к началу, следя по партитуре.
Но вот позади съемки Госоркестра СССР. Я сижу в монтажной. Передо мной километры пленки с общими планами оркестра и крупными планами дирижера. Помню неожиданную реакцию съемочной группы: все были в ужасе, что делать с этой горой материала, как собрать ее в стройную, логически развивающуюся динамическую конструкцию? Где найти принцип сложения музыкального материала в зрительный ряд, не противоречащий музыке, а как бы продолжающий ее? Не найдя ответа друг у друга, мы стали по фонограмме послушно монтировать материал, предварительно синхронизировав его. А синхронизация целых километров пленки заняла не менее двух недель, ибо все шесть камер, с разных точек снимающие симфонический оркестр, были лишены синхронного запуска. Мы снимали не под готовую фонограмму — от этого Светланов отказался категорически, считая, что это нарушает естественность исполнения; съемки шли одновременно с записью фонограммы, и остановить оркестр для синхронного включения той или иной камеры практически не было возможно. Поэтому процесс синхронизации был достаточно мучителен. Тем более, что по существующим нелепым правилам фонограмму записывал один звукорежиссер, не имеющий отношения к фильму, а монтировал фильм другой, не имеющий никакого отношения к записи фонограммы. В результате с трудом мы свели концы с концами, ибо собирать материалы пришлось из двух дублей — первый дубль фонограммы не удовлетворил Светланова, а на втором дубле у трех камер кончилась пленка. Синхронизировать изображение, взятое из первого дубля, со вторым дублем фонограммы долго никак не удавалось.
Но вот наконец материал был синхронизирован, и я приступил к монтажу оркестровых эпизодов.
Смонтировали мы один оркестровый эпизод, посмотрели на экране и схватились за головы. Все было правильно, верно по музыке, но от всего увиденного рождалось странное ощущение чего-то затянутого, однообразного, тягучего и, увы... скучного. Никуда не денешься — это было невыразимо скучно, хотя в кадре был выдающийся дирижер, превосходно ведущий за собой один из лучших оркестров мира. Но слияние звучащего образа со зрительным не произошло, и та огромная эмоциональная звуковая волна, которая лилась с экрана, никак не поддерживалась вялым, аморфным монтажем, уныло плетущимся где-то в хвосте у музыки. Вернувшись после просмотра в монтажную, я разбросал все, что было склеено, и работа началась заново.
Вновь обратился я к партитуре, пытаясь в ней найти решение. (Мне очень помогает изучение партитуры параллельно со звучащей фонограммой. Все становится яснее, нагляднее, и лучше видится звучащий в музыке образ.)
И, наконец, мне стало понятно, в чем ошибка. В музыке постоянные динамические изменения и темпа, и звучания — что-то идет как общий план, что-то — как средний, а есть в музыке и явные крупные планы, особенно акцентирующие слуховое внимание. А у меня в смонтированном материале все было ровно, все одинаково, ни на чем зрительское внимание не акцентировалось. Поэтому музыка существовала в одном эмоциональном ключе, зрительный ряд — в другом, никак не сочетаясь. Да они и не могли сочетаться, ибо одно противоречило другому. У меня явно не хватало материала для акцентировки зрительного внимания, не хватало крупных планов. Пришлось, преодолев сопротивление административной части студии, пойти на досъемки крупных планов солистов оркестра и инструментов.
Отметив по партитуре, а затем по фонограмме необходимые укрупнения, я провел досъемки (время поджимало, у Госоркестра СССР были свои планы, пришлось стремительно провести досъемки — в две смены!). И вот когда я получил материал, заново приступил к монтажу. Теперь в руках у меня были планы, снятые по партитуре, предварительно точно размеченные.
Я смонтировал весь музыкальный материал не по фонограмме, как обычно, а непосредственно по партитуре.
После «Дирижера» этот прием стал для меня правилом, от которого не отступаюсь по сей день. Мои рабочие экземпляры партитур все чирканы-перечирканы, и каждая группа инструментов или солирующие куски выделены фломастерами разных цветов — так легче монтировать партитуру, так виднее вся сложная музыкальная структура партитуры. Монтаж был очень дробным — чрезвычайно большое количество кадров. Малейшим акцентам (я уж не говорю о больших эмоциональных взрывах) находился зрительный эквивалент, что потребовало скрупулезно выстроенного монтажа. Были планы, продолжающиеся менее секунды, и мы подолгу высчитывали с монтажерами количество кадриков, необходимое для данного акцента (были планы по четыре-пять кадриков!).
Так у нас в кино музыку еще не монтировали. В 70-е годы принят был совершенно другой стиль, диаметрально противоположный избранному мной. Обычно шли долгие, неторопливые планы оркестра, в основном общие, где ничего конкретного выделить нельзя, а так — общая картина, полная «объективность», так сказать. Примерно в этом, общепринятом тогда плане, я и смонтировал первый вариант оркестровых эпизодов «Дирижера». А во время этого зрительного покоя оркестр бушевал, стонал, протестовал, стремился... Меня всегда коробила в музыкальных фильмах такая неумелость обращения с музыкальным материалом, какое-то равнодушие, что ли, к нему.
Монтируя звучащую партитуру, удалось нащупать музыкально-пластическую драматургию. Найденный принцип музыкального монтажа позволял врываться в партитуру, изобразительно выделять главное, убрать на задний план второстепенное. Он дал импульс и энергию, динамику и стремительный ритм, а главное — он зрительно верно трактовал музыку, он шел за музыкой, а не в сторону от нее. Прием был найден. Дальше все было легче. Монтаж пошел увереннее, картина стала приобретать новое дыхание.
Когда я начал картину о Светланове, то больше всего боялся в фильме-портрете инсценировочности, какой-то нарочитости, старательно организованной традиционной «телеслучайности» — того, что раздражает любого из нас в документальном фильме. Правда, по счастью, Светланов в кадре оказался настолько естественным и простым, что опасения на этот счет исчезли. Он был серьезен и точен в кадре, постоянно сосредоточен на конкретной задаче и поэтому убедителен — без малейшей позы, рисовки, все всерьез и достойно.
В процессе съемок тематика эпизодов по сравнению со сценарием значительно расширилась, потому что мы уверовали, что Светланов убедителен вне оркестра не менее, чем за дирижерским пультом. Эпизоды вне оркестра и дирижирования стали укрупняться, приобретать самостоятельное значение, становясь не только связками между крупными музыкальными номерами. Действие в фильме вышло из узкого пространства, ограниченного стенами студии звукозаписи и дома музыканта — в фильм ворвались пейзажи: весна, небо, широкие московские улицы.
Мы рискнули начать фильм с эпизода, незапланированного сценарием. Фильм о выдающемся музыканте начинался совершенно неожиданно: по Москве в потоке машин, троллейбусов, автобусов, ехал велосипедист. Он проезжал по Садовой и исчезал в тоннеле под площадью Маяковского, погружаясь в тревожный сумрак, затем вновь появлялся из тоннеля и постепенно удалялся в сторону площади Восстания... Это Светланов спешил на запись.
В следующем кадре он подъезжал к Дому звукозаписи на улице Качалова, оставлял у входа велосипед и проходил в здание. И все с такой естественностью, делово, увлеченно, что создавалась полная иллюзия действительности. Надо сказать, что мы не стремились к рекламному эффекту (в то время Е. Светланов на самом деле, как ни удивительно, ездил по Москве на велосипеде, так что никакого вранья в этом эпизоде не было.)
Но предстояло снять два эпизода, которые вызывали у меня тревогу, ибо в них могла проявиться инсценировочность, искусственность. Один из них строился следующим образом.
Поздний вечер. Закончился концерт Светланова. Из Большого зала Московской консерватории расходятся последние слушатели. Гаснут люстры в зале, погружается в полумрак фойе, темно становится в широком дворе консерватории. На эстраде Большого зала библиотекари собирают с пультов ноты, раскладывают ноты для завтрашней репетиции. И тогда на эстраду, где стоят еще в беспорядке пульты и стулья, дремлют в полумраке контрабасы, да матово поблескивают трубы величественного органа, выходит дирижер. Теперь он не во фраке, одет просто, по-домашнему. Он полон только что прошедшим концертом, он еще там, в музыке, в эмоциях, рожденных музыкальными образами. Медленно проходит он через всю эстраду, подходит к краю, смотрит в зал, будто что-то вспоминая. Потом садится к дирижерскому пульту, раскрывает партитуру, принесенную с собой, и начинает заниматься. (Мы успеваем заметить, что это — Пятнадцатая симфония Шостаковича.) Совсем издалека, с верхнего яруса, мы видим всю громаду Большого зала, потонувшего во мгле, эстраду, заставленную пультами, и одинокую фигуру дирижера, склонившегося над пультом.
На этом плане начинала звучать музыка. Так же издалека, с неведомых вершин, возникала мелодия, еще неясная, но уже ощутимая. Так рождалась симфония Шостаковича. Музыка постепенно входила в пустой темный зал, заполняя его, заливая звуками, и вот уже властно, могуче звучала гениальная Пятнадцатая симфония...
А в кадре был только дирижер, склонившийся над партитурой, которая оживала перед нами в звуковом потоке в полутемной громаде Большого зала, где под стрельчатыми окнами, поднятыми к самому потолку, неясно мерцали портреты великих музыкантов. Гремела, сверкала, плыла музыка в пустом зале.
С огромным напряжением всматривался, вживался дирижер в партитуру. Вот он поднял руку, словно готовясь дирижировать... И внезапно, словно вознесенные могучей музыкальной волной, мы оказались в переполненном зале, ярко освещенном огнями люстр, и на эстраде был Светланов, дирижирующий Госоркестром (здесь в кадр врывался цвет). Музыка Шостаковича продолжала звучать, ведя разговор о людях, о мире, о вечных проблемах жизни и смерти...
И еще один эпизод. В одной из наших встреч нам удалось вызвать Светланова на разговор о тайнах творчества, о его привязанностях, о тех импульсах, которые движут художником. Весь разговор мы записывали на пленку. Во время этой беседы Евгений Федорович сказал проникновенные слова о кровном единстве художника с родной землей, о той неразрывной нити, которая связывает его с Родиной, людьми, родной природой,— без чего нет творчества, нет художника.
Потом, когда я прослушал эту запись, мне захотелось расширить зрительный ряд, чтобы разговор о любви к родной земле шел не в кабинете и не в студии звукозаписи, а на природе, под чистым и ясным небом. Тем более что шла весна. И вот в одно прекрасное апрельское утро мы отправились с Евгением Федоровичем в сторону Звенигорода снимать эпизод, родившийся уже в съемочном периоде. И опять же единственное, чего я боялся,— инсценировочности, искусственности, которая могла зачеркнуть всю картину. Приехали мы на место, за много лет до этого найденное мною и любимое мною за красоту, ширь и раздолье. Представьте себе: высокий берег Москвы-реки, которая здесь, в верховьях, тихая, спокойная, очень неглубокая, с зелеными островами посреди реки; на высоком берегу белоствольная роща, доходящая до самого обрыва; а там, за рекой,— поля, луга, леса в сизоватой дымке. Дали неоглядные, Россия, Родина...
Приехали, стали искать точки для съемок, а Светланов, которому очень понравилось это место, подошел к обрыву и смотрел вдаль, думая о чем-то своем и, верно, хорошем. Мы поставили камеру, стали незаметно снимать его, и вдруг раздался резкий удар и треск, а затем еще удар и опять треск. Это взломался лед на Москве-реке, и начался ледоход — ломаясь, громоздясь одна на другую, пошли крошиться льдины. Светланов был в восторге — мы присутствовали при моменте прихода весны, оживления скрытых сил природы, да и в нашем фильме был эпизод «Весна священная» Стравинского. Так это и вошло в картину — начавшийся ледоход, прозрачная белоствольная роща, полная весеннего солнца, лицо Светланова, озаренное каким-то внутренним светом, и его голос за кадром, задушевно говорящий о Родине, о родной земле, которая у человека одна...
У Светланова есть вроде бы случайно оброненная фраза в воспоминаниях об одном дирижере: «Наши с ним «беседы при ясной луне» и теперь частенько приходят мне на память и будоражат и без того тревожную мою душу». Что-то булгаковское чудится в этой фразе. И если вдуматься в скрытый смысл ее — поражает точность определения и понимания самого себя. И это при внешней сдержанности Светланова, собранности, я бы даже сказал, некой «светскости», характерной для него. И мне кажется, что в фильме «Дирижер» за внешней его строгостью ощущается присутствие «тревожной души» выдающегося музыканта — мятущаяся, вечно ищущая душа его, душа человека искусства, всегда идущего дальше и дальше в поисках совершенства. «Тревожная моя душа»,— как точно, как откровенно сказано! И зная Е. Ф. Светланова более 30 лет, я всегда ощущал и ощущаю тот скрытый, вечно работающий импульс, электрическую энергию, максимально сконденсированную в его душе,— весь тот сложный внутренний мир выдающегося музыканта, в котором зреет такое неординарное, такое неповторимое творчество.

Съемки телефильма «Голубиная улица».
И. Шароев, оператор Г. Шатров, В. Леонтьева,
кинорежиссер Ю. Чулюкин. 1955 год
Три фильма
Просмотр музыкально-документальной ленты «Дирижер» состоялся во Всесоюзном доме композиторов. Собралось много музыкантов. После премьеры импровизированно возникло обсуждение. Взоры всех обратились к Тихону Николаевичу, его мнения с волнением ожидали и авторы фильма, и его герой — Светланов. Тихон Николаевич сказал очень тепло о картине, поздравил Светланова и нас с Капустиным. В общем, целиком высказался за картину, сказав, что музыке найдено убедительное зрительное решение и верно показан творческий процесс дирижера. «Сразу видно — фильм делали музыканты»,— закончил он свое импровизированное выступление.
Прошел месяц или два. Вдруг ночью — телефонный звонок. Звонил Тихон Николаевич, сказал, что «Экран» запускает в производство фильм о нем, и он хочет, чтобы этот фильм снял я.
К тому времени у меня в «Экране» сложились отношения плохие, я оказался не в чести у нового руководства студии и собирался оттуда уходить. Но разговор с Тихоном Николаевичем повернул все в другую сторону. Снять фильм о творчестве Хренникова — как я мог отказаться от этой необычайно интересной задачи! К черту отношения на работе, которые не сложились, к черту склоки и наговоры — всю эту чушь и накипь, если впереди серьезная, увлекательная творческая работа!
Надо было срочно начинать фильм. Но никакого сценария не было. Тогда я сам написал сценарий будущего фильма. Идея его заключалась в сопоставлении двух фортепианных концертов Тихона Николаевича. Первый был написан композитором еще в консерваторские годы, второй — через 40 лет. Между этими двумя произведениями — огромный кусок жизни, полный больших событий, труда, раздумий, проб.
Монтажно сопоставить, столкнуть, «встретить» два концерта, не пытаться сгладить это столкновение драматургическим ходом, а, напротив, обнажить его хотелось мне в фильме.

Рабочий момент съемок фильма «Представление начинается» с участием Олега Попова. «Экран». 1969 год
В Первом фортепианном концерте Хренникова много юношеского, светлого, там — сердце, открытое людям, там — призыв к людям, нравственный подтекст которого ясно определен: «Жизнь прекрасна!» Это проходит красной нитью через всю своеобразную драматургию великолепного молодого концерта. Мелодическое богатство, неисчерпаемость мелодий, полнокровность песенного начала; в этом — сердце художника, глубинная щедрость его духовных сил, уникального дара. То, что потом станет отличительной чертой творчества выдающегося композитора, проявилось в первом крупном сочинении. И не случайно Первый концерт вот уже более 50 лет (!) играют все — и крупные мастера-пианисты, и юные музыканты... Обо всем этом хотелось рассказать в фильме, найдя соответствующую образную форму.
И тогда я вновь погрузился в подробнейшее изучение партитуры, многократно «прочел» ее — так же, как драматический режиссер изучает пьесу, которую ему предстоит ставить. Многие десятки раз прочитана партитура, прослушана фонограмма, и, наконец, решение пришло — как «смонтировать музыку», как найти ей точное зрительное выражение.
В партитуре Первого концерта происходит, если можно так сказать, музыкальный «поединок» пианиста с оркестром, здесь ведут сложный диалог как бы две темы (я имею в виду не чисто музыкальные темы, а темы философские, жизненные), и диалогичность построения определяет многое в общей эмоциональной динамике Первого фортепианного концерта. Этот прием и был положен в основу монтажа.
Итак, зрительная, пластическая драматургия фильма, строилась на диалоге двух тем, даже скорее — двух творческих организмов — фортепиано и симфонического оркестра, которым блистательно дирижировал Е. Светланов. Этой мысли надо было найти продолжение. И оно было найдено, в отличие от традиционного для таких фильмов интервью с главным действующим лицом фильма, в диалоге Т. Н. Хренникова с известным музыковедом И. И. Мартыновым. Этот своеобразный диалог-спор о творчестве стал как бы мостиком между двумя фортепианными концертами.
Второй фортепианный концерт создан во всеоружии высокого мастерства, в расцвете творчества. После неоднократных прослушиваний музыки Второй концерт представился как единый лирический монолог автора, его философские высказывания о жизни, о человеческих взаимоотношениях, о драматических проблемах сегодняшнего мира, о людях, устремленных в будущее, о светлой надежде, живущей в их сердцах. «Второй фортепианный концерт задумывался как жизнеутверждающее, жизнерадостное сочинение, которое отзывалось бы в слушателе светлым настроением, ощущением счастья быть человеком на нашей прекрасной земле, жить и творить»[72]. Это авторское высказывание было основой для изобразительного решения концерта, что сказалось как в стремительном динамичном монтаже, так и в общей колористической гамме, где цветовой основой стали солнечно-желтый и светло-коричневый цвета. Итак, лирический монолог автора был определен основным приемом монтажа Второго концерта. Тем более что Тихон Николаевич сам исполнял Второй концерт — и блестяще исполнял! — что придавало всему фильму особую ценность и многозначность темы.

Рабочий момент фильма «Дирижер». Е. Светланов, И. Шароев. «Экран». 1972 год
Есть в исполнении Хренникова какая-то тайна, глубина, которую трудно объяснить, но она явственно ощущается, когда Тихон Николаевич исполняет свои произведения (это качество Тихона Николаевича как автора-исполнителя поразило меня много лет назад, когда композитор показывал в Большом театре оперу «Мать»). В исполнении Хренникова во всю эмоциональную силу звучит авторский подтекст, заложенный в произведении, определяющий самую сокровенную сущность его. Да простят меня наши выдающиеся пианисты, но мне более по душе вот этот проникновенный «композиторский пианизм», как определил сам Тихон Николаевич. Сохранить этот ценный творческий документ, донести подлинность, непосредственность исполнения — была одна из главных задач авторов фильма. Образ Хренникова как автора и исполнителя сливался для зрителя-слушателя в единый образ, от имени которого шел весь этот лирический монолог, полный сердечного тепла, искренности, задушевности — своеобразная авторская исповедь. Так неожиданно мы становились как бы свидетелями глубинных тайн творческого процесса. На наших глазах композитор воссоздавал заново свое произведение — теперь уже как исполнитель. И оно будто рождалось сегодня, сейчас, и мы становились не только свидетелями, но и соучастниками уникального процесса — создания произведения искусства. Это вторичное воссоздание (да, да — не повторение, а именно «воссоздание») творческого процесса — одна из самых дорогих для меня основ фильма «Два концерта». Я не представляю себе снятый мной фильм, не будь в нем удивительного рождения на наших глазах авторской мысли, эмоции, тончайших нюансов души. Пусть даже самый выдающийся пианист исполнял бы Второй концерт — из фильма ушло бы то необычайное ощущение рождения произведения, которое придает авторское исполнение Тихона Николаевича.
Во Втором концерте фортепианная партия выходит на первый план, превалируя над оркестром. И начинается это с первой части, являющейся, в сущности, почти сплошным фортепианным соло с ярко очерченной, выразительной мелодической структурой, в дальнейшем находящей сложное полифоническое развитие в симфоническом оркестре. Авторские раздумья о времени, о жизни...
Прием отстраненного авторского высказывания, взятый за основу монтажа, помог вывести главное, что заключено в партитуре концерта, так сказать, на первый план. Крупные планы — лицо композитора, его глаза, руки, клавиатура, оживающая от эмоционального, стремительного прикосновения рук Тихона Николаевича — все это было прослежено с чрезвычайным вниманием и собрано, соединено в монтаже в точном соответствии с партитурой.
Тот же музыкальный материал, с которого начинался концерт, возникал в финале концерта (эпизод с ярким до мажором, звучащим радостно и солнечно, с настойчиво повторяющимся ре-бемолем), словно постоянное напоминание о чем-то своем, тревожащем, волнующем. Эта архитектоника партитуры Хренникова нашла свое воплощение и в зрительном ряду. И вновь возникали крупные планы лица, рук, глаз композитора, камера не торопилась, не подстегивала нас «кинематографическим темпом» — нет, камера внимательно вглядывалась в мгновения творческого процесса, постепенно вводя зрителя внутрь процесса, делая его соучастником творческого акта. И то, что удалось заглянуть в самую сердцевину творческого процесса и наглядно показать его, для меня — самое ценное в фильме «Два концерта» — первом моем непосредственном соприкосновении с творчеством музыканта.

С Т. Хренниковым на съемках фильма «Два концерта». 1973 год
В фильме контрастно соединились два концерта, написанные в разные годы. За этим ощущался подтекст глубоких размышлений художника о жизни, прожитой в творческом горении, в неустанном поиске.
Мне вспоминаются проникновенные слова одного из участников фильма, Евгения Светланова, под руководством которого Государственный академический оркестр СССР исполнял концерты Тихона Николаевича: «Почти 40 лет отделяют создание Второго концерта Хренникова от его же Первого концерта, написанного еще в период учебы в Московской консерватории. Естественно, за это время многое изменилось в нашей музыке, как и в творчестве самого Хренникова. Но основа творчества композитора незыблема. Его жизнеутверждающий реалистический талант засверкал новыми гранями во Втором концерте»[73].
Картина неоднократно показывалась по Центральному телевидению. Отзывы прессы подтвердили правомерность соединения двух концертов в одном фильме.
Следующая картина, которую я сделал о творчестве Тихона Николаевича, называлась «Встречи с Тихоном Хренниковым». Здесь за основу брались два произведения — Первая симфония и скрипичный концерт. Исполнителями были Игорь Ойстрах и Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио под руководством В. Федосеева. Участие Тихона Николаевича ограничивалось интервью.
Фильм отличался от «Двух концертов» иным стилевым решением. Если там, в «Двух концертах», была известная доля инсценировочности — в воспоминаниях о консерваторской юности, в беседах-интервью — то здесь фильм был сделан более репортажно, более, что ли, открытым способом.
Фильм начинался с того, что мы заставали Тихона Николаевича в студии телевидения, где шла запись и съемки Первой симфонии Хренникова, в перерыве обращались к нему с вопросами, и прямо здесь же, в студии, начиналась беседа о творчестве, о перспективах, о специфике тех музыкальных жанров, которые были представлены в фильме. И разговор в результате получился каким-то неподготовленным, и потому — очень естественным. На втором плане ходили по студии оркестранты, кто-то играл на инструменте, рабочие вносили стулья, звукооператоры ставили микрофоны — словом, естественная, обыденная рабочая обстановка студии, столь привычная каждому, кто бывал на съемках и записи. Открою секрет — эта естественная обстановка не была режиссерски организована, она творилась в процессе съемки сама собой. Единственно, что мы сделали,— предупредили людей, что идет съемка, и просили их не шуметь. Но поскольку мы не объявили точного момента начала съемки, то те, кто находился в студии, вели себя «свободно и раскованно», что придало «активному фону» естественность и подлинность атмосферы.
Симфония — произведение, полное драматизма (здесь выделяется в особенности вторая часть), огромного напряжения, глубоких раздумий — симфония эта после премьеры в Большом зале Московской консерватории вскоре перешагнула рамки Москвы, стала широко исполняться по всей стране и за рубежом. Крупнейшие дирижеры мира исполняли и исполняют ее.
Р. К. Щедрин дал точную и емкую характеристику: «Наряду с «Александром Невским» Прокофьева, Пятой симфонией и Фортепианным квинтетом Шостаковича, Скрипичным концертом Хачатуряна и «На поле Куликовом» Шапорина, Первая симфония Хренникова была той почвой, одним из тех примеров современного советского искусства, на которых росли и воспитывались многие музыканты моего поколения»[74].
Первая симфония заняла основной метраж в новом нашем фильме. Драматизм симфонии, ее глубокий динамизм, «сумрачный, напряженный» (определение Р. К. Щедрина) колорит нашли свое отражение в зрительном ряду. Но к тому решению, которое запечатлено в фильме, я пришел не сразу. Много различных вариантов было опробовано в процессе создания фильма, и от многих проб пришлось мне самому отказаться.
В своем рассказе, вошедшем в картину, Тихон Николаевич говорил, что симфония не имеет определенной программы (я цитирую по памяти, ибо у меня нет под рукой монтажного листа), что смысл симфонии заключается в том, что она отразила простые, обыкновенные человеческие чувства, близкие и понятные каждому. Хренников говорил, что содержание музыки симфонии — горе, радость, страдание и счастье людей.
Сколько бы раз я ни слушал Первую симфонию (а слушал я ее многие десятки раз — ив подготовительном периоде фильма, и во время съемок, и при монтаже), передо мной вставал во весь рост музыкальный подтекст, которым наполнены части-фрески этого произведения. Я слышал в симфонии не только личные переживания, но и время — легендарное время преодоления голода и разрухи в стране, силу нового поколения Страны Советов, неудержимо, сквозь сумрак трудностей, неверия, стремящегося в завтра; я слышал в музыке симфонии мужественный драматизм, высокий гражданский пафос, веру юного поколения страны и веру юного автора — плоть от плоти этого идущего в завтрашний день поколения,— который мог с полным правом сказать о себе: «Я счастлив, что я этой силы частица».
И поэтому родился у меня соблазнительный вариант — внести в зрительный ряд приметы эпохи, связав музыкальные образы симфонии с образом стройки, трудового подвига страны — через кинохронику, живопись, графику 30-х годов. Никому не рассказывая об этом, я смонтировал одну из частей симфонии на документальном материале первых пятилеток и посмотрел на звукомонтажном столе. Дело было поздно вечером. В длинном коридоре монтажного цеха «Экрана» осталось всего две-три группы, и поэтому я был уверен, что мне никто не помешает проверить этот прием. И вот мы вдвоем с монтажницей стали зрителями «кинематографического» решения симфонии. Надо сказать, что смонтирован материал был лихо: стремительный, с мгновенно возникающими кадрами кинохроники, в соответственных по музыке местах он сменялся неторопливыми планами живописи и графики тех лет.
Я просмотрел часть раз, второй, потом еще раз... Смотрелось все это с интересом даже при повторном просмотре, но я поймал себя на том, что музыка — а ради нее и создавался фильм! — вдруг приобрела какую-то зрительную конкретность, даже злободневность, но в результате из нее ушло то обобщение, которое звучит в симфонии Хренникова.
И мне стало ясно: при таком решении фильм выигрывал чисто зрительно, ибо стремительную кинохронику смотреть в кино интереснее, чем разглядывать на крупном плане струны виолончели или клапаны у кларнета. Но при этом — что также стало мне ясно в тот вечер — фильм много терял с точки зрения раскрытия глубинного смысла и подтекста музыки. И, слушая восторги монтажницы («Как все ожило сразу, как теперь интересно смотреть!» — ликовала она), я радовался тому, что не пригласил на просмотр ни редактора, ни директора, ни главного редактора студии.
Им бы, наверное, понравилось, что все «ожило», и еще уговорили бы смонтировать так всю симфонию. И получился бы документальный фильм о первых пятилетках с музыкой Т. Хренникова...
В тот вечер я сам себе преподал хороший урок — не искать «подпорок» музыке, верить в ее самоценную, глубинную силу, исходить только из музыки и не пытаться навязывать ей чужеродное, не идущее от сущности ее.
Плакала монтажница чистыми детскими слезами, когда я выбросил в корзину все, что мы смонтировали (а это очень кропотливый труд — буквально по тактам смонтировать изображение целой части симфонии). Но я решился на это, поняв, что нарушаю главное, ради чего задумывался весь фильм.
И снова начались прослушивания записи симфонии. И чем больше слушал я музыку, тем все убедительнее рождался монолитный звукозрительный образ, который мельчить было нельзя, и нельзя пытаться подробно разъяснить. Та стихия, которая в двух частях набирает постепенную силу и, словно могучий ураган, прорывается в третьей части бурным эмоциональным потоком, приводящим к ликующему финалу,— эта подчиняющая все стихия музыки должна стать основой фильма. Решение выстроить зрительный ряд симфонии в плане постепенного развития, постепенного накопления силы к третьей части, к эмоциональному взрыву, происходящему в ней,— таков был итог новых неоднократных прослушиваний.
Все начиналось с неторопливых крупных планов — рук дирижера, страниц партитуры с укрупнением тех строчек, которые в данный момент звучали. Очень крупные планы деталей инструментов, общая коричневая цветовая тональность, в которой тускло мерцала медь духовых инструментов,— все это создавало в кадре «сумрачный, напряженный колорит», так точно подмеченный Р. К. Щедриным. Сдержанность, собранность были характерны для первых двух частей симфонии, где монтаж был построен на постепенном расширении, так сказать, «географии» оркестра — в процессе исполнения симфонии в кадре появлялось все больше исполнителей, наконец — целые группы.
И лишь в третьей части весь оркестр — огромный, живой, дышащий, движущийся организм — властно врывался в кадр и царствовал в кадре, диктуя свою волю, эмоцию, покоряя своей силой. И отсюда эмоциональный поток симфонической волны устремлялся к жизнеутверждающему финалу симфонии. И когда в финале в кадре возникали ярко освещенные, сверкающие золотом раструбы труб, пронзая оркестровую ткань ликующим призывом,— словно солнце всходило над горными хребтами, озаряя землю радостными лучами, зовя за собой в новый, счастливый день...
Так был найден зрительный эквивалент звучащему в музыке образу, где основой стала музыка, и музыкальная драматургия симфоний получила свое зрительное выражение. Как мне кажется, такое изобразительное решение наиболее приближалось к сущностной природе музыкальных образов, рожденных фантазией композитора. Органическое единство звукозрительного образа — вот конечный результат, к которому я стремился и которого, как мне кажется, в известной мере удалось достичь.
Контрастом к пластическому образу Первой симфонии было решение Второго скрипичного концерта в исполнении И. Ойстраха. Здесь, в этом концерте, музыка которого очень лирична, изящна и искренна, мы с операторами искали зрительные образы, соответствующие звучащей музыке.
Запомнилось мне изобразительное решение второй части.
Перекличка кларнетов, арфы и солирующей скрипки создают удивительный поэтический мир, где царит мелодия, летучая, струящаяся вдаль, в чистое небо...
Мы сняли почти всю II часть через струны арфы. Там, за трепетными струнами, постоянно оживающими под чуткими пальцами арфистки, как в дымке, возникали то крупные планы кларнета, то — наплывом — солирующего скрипача, то силуэт дирижера. В финале части, в звуках растворяющейся, улетающей ввысь мелодии, постепенно «размывалось» изображение скрипки и струн арфы. Вот звучат последние аккорды второй части, и растворяется на экране, теряя контуры и цвет, изображение...
Мне хотелось, чтобы на наших глазах словно заново оживала в зрительных образах музыка Хренникова.
Свой третий фильм, посвященный творчеству Хренникова, я сделал в 1983 году к 70-летию композитора, «Тихон Хренников. Страницы жизни и творчества». Это был большой документальный фильм — двухсерийный, с огромным количеством эпизодов, участников, коллективов, с множеством кадров кинохроники — начиная с 30-х годов, когда юный студент-композитор был впервые замечен музыкальной общественностью.
Начав работу над картиной, много дней провел я в Красногорске, в киноархиве, отыскивая кадры старой (пятидесятилетней давности) хроники. И каждый раз и странно, и радостно было мне встречаться с юным Тихоном Хренниковым — словно, сломав 50-летний временной барьер, я сам оказался в середине 30-х годов, рядом с юным композитором: он, смущаясь и волнуясь, говорил о своей работе, садился к роялю, и с экрана лились мелодии, которые узнаешь буквально по первому такту, мелодии, говорящие о чудесном даре юного их автора...
В просмотренных в архиве километрах кинопленки 30-х годов (а еще был «киноглаз» Дзиги Вертова, и во многих киносборниках я встречался с изощренным монтажом родоначальника советской кинодокументалистики), находя кадры юного Хренникова, я постепенно, ощупью, отыскивал интонацию будущего фильма — интонацию естественного, открытого разговора, естественного человеческого общения выдающегося музыканта и общественного деятеля. Самое простое и близлежащее — сделать юбилейный фильм, полный парадности и официоза, тем более, что такого материала — километры, и такой фильм — не сомневаюсь! — получил бы зеленую улицу на телевидении.
Но мне хотелось другого. Я всегда воспринимал Тихона Николаевича вне его официальной жизни, постов и регалий. Признаюсь, он дорог мне и тем, что я никогда — ни разу за много лет! — не увидел у него ни одного ордена, ни одной из медалей многочисленных премий, которыми он награжден.
Он дорог мне своей естественностью и простотой (не сыгранной, что мы нередко встречаем, а какой-то удивительной органичной), идущей, мне кажется, от естественности и ясности его уникального таланта.
Корни этой естественности — в самых глубинных народных пластах, в том спокойном и ясном ощущении духовной силы, которая льется со страниц древних русских летописей, со страниц героических былин и сказаний и так явственно ощущается в могучем строе старинных русских народных песен, которая незримо разлита в широте и беспредельности русской природы. Он сам оттуда — от этих привольных полей и лесов, спокойных, чистых равнинных речек, от русской песни, что так дивно пела его мать Варвара Васильевна; он сам — оттуда, из городка, затерянного «во глубине России», каких тысячи, десятки тысяч разбросано по лицу земли.
...И вот мы в Ельце с киногруппой и с героем нашего фильма.
Елец — городок маленький, но очень заметный на карте российской культуры. С Ельцом связаны такие славные имена, как Тургенев, Фет, Тютчев, Лесков, Бунин. Какая-то древняя тайна есть в этих краях — привольных, открытых взору с крутых берегов задумчивой реки Сосны, в чистом прозрачном воздухе, напоенном запахом душистых трав и полевых цветов, в могучем шуме беспредельных, как океан, лесов.
Россия, сердце ее, средоточие дорог со всех концов света — вот Елец...
Мы стоим с Тихоном Николаевичем на узкой улочке, у углового дома, вросшего от старости в землю, с небольшими окнами, выходящими на улицу и во двор. И я замечаю — неожиданный Тихон Николаевич у родного дома своего: молчаливый, тихий и печальный...
О чем думает, о чем вспоминает он — человек, за плечами которого долгий, сложный и такой неоднозначный творческий и жизненный путь...
Мы входим в дом, где родился Тихон Николаевич, где он сделал свои первые шаги, где учился читать, играть, где спел свою первую песню, где трепетная мальчишеская рука набросала первую в своей маленькой жизни мелодию...
Небольшой, опрятный домик — прихожая, гостиная, печь, маленькая спальня. Мы ходим с Тихоном Николаевичем по дому, и он вспоминает: «Вот здесь... а здесь...»
И словно нету многих лет, удаливших Тихона Николаевича от его детства: он снова дома, он снова в своем детстве, в большой семье, освященной силой и мудростью его отца и сердечным теплом матери — прекрасной певуньи, одаренной от природы удивительным музыкальным даром. Тихон Николаевич вдруг прерывает свой рассказ, замолкает, садится на табуретку у печки, и мы видим слезы на его глазах (а камера продолжает снимать. И мы понимаем — эти кадры, может, самое дорогое для будущей картины).
А потом мы едем к памятнику героям-ельчанам, отдавшим жизни в борьбе с фашизмом. Тихон Николаевич подходит к Вечному огню, снимает шапку, кланяется низко, долго стоит, смотрит на Вечный огонь — печальный, полный внутренней силы. Когда я в фильме подложил под эти кадры песню Тихона Николаевича «Поле Куликово», которую он сам исполнял, и когда дрогнул его голос, и он все-таки допел сквозь слезы:
Там, где ты сейчас стоишь —
Там и поле Куликово! —
мне кое-что новое приоткрылось в творчестве Т. Хренникова — сына своего народа...
Елецкий эпизод вошел в фильм, придав ленте ту человеческую, сердечную интонацию, которую я так долго искал и которой так в фильме не хватало. И еще: наша поездка в Елец открыла мне совсем другого Тихона Николаевича. В Москве он весь в гуще дел — всегда спешащий, стремительный, озабоченный.
А в Ельце он был тих, нетороплив, весь какой-то просветленный, спокойный, озаренный встречей с собственным детством, словно вернувшийся к истокам своим...
Перед отъездом в Москву, к вечеру, стояли мы на крутом берегу речки Сосны, оттуда такие дали открываются — дух захватывает. Мы не знали, что операторы незаметно снимали издалека, из окна машины. И для меня было сюрпризом, когда я увидел на экране желтеющий к вечеру по-зимнему светлый лес, легкие-легкие прозрачные облачка, неторопливо плывущие в вечереющем небе, и просветленное лицо Тихона Николаевича, смотрящего на родные дали.
И я понял, что у меня теперь есть начало фильма — фильма о народном таланте...
Когда шли съемки эпизода «В Московском музыкальном», я уже репетировал «Доротею», и появление на репетициях Тихона Николаевича не было «совершенно случайным», как зачастую принято в телевизионном репортаже; Тихон Николаевич постоянно присутствовал на репетициях своей оперы, принимая самое непосредственное участие в них.
И вот кончилась репетиция, а с ней и съемки, разошлись актеры, постановочная часть стала разбирать оформление, осветители приглушили свет на сцене, и съемочная группа разбирала аппаратуру. Но нам уходить не хотелось. Мы долго сидели в полутемном зрительном зале театра с Тихоном Николаевичем, и он вспоминал, как много лет назад пришел сюда совсем еще молодым, и сколько дорогого связано было с этим залом, сценой, людьми.
И, конечно, особый разговор зашел о встречах с Немировичем-Данченко (я замечал — когда Тихон Николаевич говорит о Немировиче-Данченко, глаза его теплеют, он всегда вспоминает о Немировиче-Данченко с нежностью и любовью).
Потом Тихон Николаевич, задумавшись, замолчал, и я встал и отошел от него к съемочной камере. Посмотрел в глазок камеры и прямо ахнул — вот что должно быть в фильме! В темном пустом зале, где так гулко звучит каждое слово и каждый шаг, одиноко сидел человек, ушедший в свои воспоминания, весь в тех, отшумевших, улетевших годах славной своей молодости, среди которых одна из ярчайших страниц навсегда связана с театром, где мы сейчас находились.
Мы незаметно сняли его в пустом темном зале Московского музыкального театра (он, конечно, не знал, что мы «подловили» его, и сидел задумавшись, не обращая внимания на нас). Эти кадры вошли в картину. А за кадром звучал негромкий голос Хренникова, вспоминающего, как он пришел сюда совсем молодым, был встречен с любовью и дружбой и как эти отношения с Московским музыкальным остались на долгие годы...
Итак, три фильма, посвященные творчеству Тихона Николаевича. Работы, представляющие для меня большой интерес, ибо дали возможность соприкоснуться с творческой лабораторией Хренникова. Они стали как бы подготовительным периодом к главным моим работам, связанным с творчеством Хренникова в Московском музыкальном театре.
Глава IV. Несколько штрихов к известным портретам
Д. Д. Шостакович
Мы как-то постепенно привыкли к тому, что среди нас ходил гений, и не удивлялись. А сам он в обыденной жизни, в обращении с людьми никогда никому не давал понять об этом. Общеизвестно, что человеком он был невероятно скромным и до болезненности застенчивым, и очень боялся, по-моему, что это поймут те, кто с ним общается. В нем жила какая-то высшая степень интеллигентности. И когда на премьерах своих произведений в Большом зале Московской консерватории выходил он на эстраду кланяться, то всегда у меня было ощущение такое, будто неловко ему стоять вот так перед всеми напоказ, и хотелось, чтобы скорее все это кончилось, и уйти бы поскорее домой, да неудобно как то...
Я очень жалею, что не удалось мне в свое время поставить в театре «Катерину Измайлову» и «Нос». Только в ГИТИСе, в учебных работах, делали мы со студентами фрагменты из опер Шостаковича, в который раз поражаясь глубинной силе этих произведений. Встретиться мне с Дмитрием Дмитриевичем на постановке его опер, к сожалению, не пришлось. Но работать вместе — пусть очень недолго — удалось, что составляет и по сей день предмет моей особой гордости.
С Дмитрием Дмитриевичем мне посчастливилось делать театрализованные концерты (не удивляйтесь, что и к этому жанру прикасался великий композитор!).
В 1962 году в Москве проходил пленум Союза композиторов РСФСР, посвященный проблемам развития легкой музыки. По настоянию Шостаковича, который тогда являлся первым секретарем правления СК РСФСР, пленум должен был закончиться большим концертом в Кремлевском театре. Примерно месяца за два до открытия пленума мне позвонил ответственный секретарь СК РСФСР А. А. Холодилин и сказал, что меня хочет видеть Д. Д. Шостакович. Я был изумлен, но А. А. Холодилин не объяснил, зачем я понадобился Дмитрию Дмитриевичу. Назавтра в назначенное время я был в секретариате СК РСФСР. А. А. Холодилин ввел меня в кабинет Д. Д. Шостаковича, и у нас состоялся первый разговор о заключительном концерте пленума. Дмитрий Дмитриевич сказал, что он хочет, чтобы концерт ставил я. О программе он высказался кратко, предложив, чтобы в концерте обязательно участвовали эстрадные оркестры и джазовые группы, эстрадные певцы. По тем временам это было совершенно неожиданно, но Дмитрий Дмитриевич настаивал на том, чтобы концерт был легким, во многом эстрадным и впрямую отражал главную тематику предстоящего пленума. Я помню, разговор шел как-то спокойно, и никакой дистанции я не ощущал (то есть, она, конечно, была, в моем сознании, ибо я ни на минуту не забывал, что беседую с великим музыкантом. А сам Дмитрий Дмитриевич был очень прост и ничем этой дистанции не подчеркивал). Мы договорились, что встретимся, когда проект программы будет готов. Через несколько дней проект программы концерта был в основном сделан.
Шостаковичу программа понравилась, он одобрил ее, сделав неожиданное предложение добавить несколько эстрадных номеров, чтобы было, как он объяснил, что посмотреть. Его желание было выполнено — так, в концерте появились номера различных эстрадных жанров, вплоть до акробатов. Но Дмитрия Дмитриевича это не смущало — ведь это был заключительный концерт пленума по легкой музыке, и эстрадные номера различных жанров вписывались в общую ткань концерта. Венцом концерта было выступление джазовых коллективов. Сначала шел калейдоскоп из отдельных выступлений. Джазовые группы удалось расположить не только по горизонтали, но и по вертикали — диагональными линиями возникали ряды труб, затем — тромбонов, затем — саксофонов, затем — ритм-группы. Выхваченные прострельными боковыми лучами, группы внезапно возникали на сцене в точном соответствии с музыкой. Весь эпизод был сделан на круге, круг шел не останавливаясь, вывозя один джаз за другим, и в финале эпизода (им заканчивалось первое отделение) все джазы объединялись и играли вместе. А на авансцене Леонид Утесов, Олег Лундстрем и Эдди Рознер, дружески обнявшись, пели: «И тот, кто с песней по жизни шагает...»
Дмитрий Дмитриевич приехал на генеральную репетицию, очень внимательно просмотрел концерт. Потом было недолгое обсуждение. От джазового эпизода он был в восторге. Все его устроило, он поблагодарил нас всех, пожелал успеха на завтра, а меня попросил остаться после обсуждения. Я был на седьмом небе — Шостаковичу понравилось! И когда мы остались с Дмитрием Дмитриевичем и Холодилиным, я приготовился к дальнейшему комплиментарному разговору, но неожиданно... «получил по зубам». В вежливой, очень сдержанной манере, но все-таки получил. «Уберите упоминание обо мне»,— тихо, но категорично сказал Дмитрий Дмитриевич. Дело в том, что в концерте симфонический оркестр Московской филармонии исполнял «Новороссийские куранты» Шостаковича, незадолго до этого написанные по просьбе героев-новороссийцев. Опережая события, расскажу, как через несколько лет после концерта, поздним вечером, я стоял у Вечного огня на аллее Героев в Новороссийске. Пустынная аллея уходит вниз, к порту, не засыпающему и к ночи. Сквозь пелену дождя мерцали в ночной мгле огни кораблей, доносился шум лебедок, кранов, чьи-то далекие голоса. А здесь, у Вечного огня, тишина. Вокруг — могилы героев «Малой земли». Вот памятник Цезарю Куникову, командиру славного новороссийского десанта. Священное место — место русской славы. Днем здесь многолюдно — пионеры, туристы, группы молодых моряков. Ночью — никого. Шел дождь. Невеселая южная зима заволокла небо низкими серыми тучами. Печально, одиноко. Наступает полночь. И ровно в 12 часов будто оживает ночь — оттуда, от Вечного огня, рождается и плывет над аллеей Героев музыка. Печальная мелодия, начавшись почти незаметно, крепнет, приобретает крылья, и вот уже сильная мелодия оркестра звучит над пустынной аллеей Героев, обращаясь к ним, к их памяти, к детям их, так и не увидившим после войны своих отцов, к женам, проводившим на фронт мужей и не встретившим их после Победы, к матерям, десятилетия после войны ждущим сыновей своих и не верящим в их смерть, знающим только одну правду — правду вещего материнского сердца... Музыка утешала, скорбила с ними, звала в полет, славила великий подвиг народа, утверждала сквозь мглу зимней ночи: жизнь, за которую погибли герои, прекрасна.
Так было темной ночью в зимнем Новороссийске на аллее Героев, ровно в полночь. Звучала музыка Шостаковича...
В нашем концерте перед исполнением этой печально-торжественной музыки шел специально написанный поэтом Л. Дербеневым стихотворный текст о необычайной истории создания этого произведения, где один раз упоминалось имя Шостаковича.
Я пытался робко возражать, но Дмитрий Дмитриевич повторил: «Обязательно уберите». Потом внимательно посмотрел на меня и добавил: «Я не ожидал этого от вас». Я был совершенно обескуражен. И при всем огорчении после разговора с Дмитрием Дмитриевичем я не мог не оценить его деликатности — он не хотел ставить меня в ложное положение и не сделал своего замечания при всех.
Когда он уехал из Кремлевского театра, Холодилин сказал: «Не огорчайся, если бы ты слышал, как мне попало за эти стихи!»
Но мне от этого легче не стало. Настроение было испорчено. Стихи я, конечно, убрал. Перед концертом, на который приехали все члены тогдашнего Президиума ЦК во главе с Н. С. Хрущевым, Дмитрий Дмитриевич пришел за кулисы, спросил у меня, как дела, все ли на местах. Видно было, что он волновался, но хотел подбодрить меня. Скоро он ушел в ложу, пожелав нам успеха. Через несколько минут последовал сигнал к началу, распахнулся занавес, и на сцене Кремлевского театра возникло то, что именуется театрализованным концертом и, с точки зрения обывательской, считается простым и легким делом, а на самом деле представляет сложный конгломерат многочисленных жанров, из которых необходимо выстроить единое концертное действо.
С большим энтузиазмом были встречены зрительным залом «Новороссийские куранты» Шостаковича. Если не ошибаюсь, это было одно из первых публичных исполнений в концерте. Короткое это произведение — три минуты всего звучит оно — но в нем с огромной силой бьется неспокойное, горячее сердце гражданина, патриота, сопереживающего судьбе народной...
В концерте наибольший успех выпал на долю джазового эпизода — в зале буквально поднялась буря. Когда закрылся занавес, многие на сцене от радости бросились друг к другу, поздравляли, благодарили. Особенно радовался Л. О. Утесов. Патриот джаза, создатель джазовой музыки в нашей стране, он страшно волновался на всех репетициях; за кулисами Леонид Осипович постоянно твердил мне: «Мой дорогой, зря вы все это затеяли. Все равно нас вышибут. Нас всегда вышибают, правда, в последнюю минуту». В антракте, после триумфа, ликующий Леонид Осипович торжественно вручил мне программу концерта с надписью: «Акиму Георгиевичу Шароеву с дружбой, симпатией и наилучшими пожеланиями и как воспоминание об этом, столь значительном, концерте. Л. Утесов. Москва. 19 ноября 1962 г.» Мы подружились после этого памятного нам обоим концерта и дружили до последних дней его славной жизни...
В своих воспоминаниях «Те десять лет» («Знамя», 1988, № 6). А. Аджубей рассказывает об этом концерте (правда, не совсем точно, называя его «итоговым концертом художественной самодеятельности», а Шостаковича — «председателем жюри»): «Концерт начался парадом-алле сразу пяти джазовых оркестров, гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки... Хрущев досидел до конца… Шостакович не знал... что такое начало концерта могло показаться ему своего рода вызовом. Желание немедленно обратить недоразумение в поучительное предупреждение привело к тому, что джазы были изъяты из музыкальной жизни».
Итак, концерт в Кремлевском театре прошел с большим успехом. Скандал после концерта был еще больше. Страсти разгорелись в основном вокруг джазового эпизода. В результате выяснилось даже, что в этом сказались чуждые нам влияния. Договорились до того, что джазовый эпизод — чуть ли не идеологическая диверсия (в то время отношение к джазу было вполне определенное). Весь огонь был направлен на меня. Так уж повелось в нашем деле — режиссер всегда виноват, что бы ни случилось. Помнится, однажды я оказался виноватым даже в том, что во время одного из концертов произошло замыкание в электросети, выключились киноаппараты, и на экране исчезло изображение. А на этот раз я стал виноватым в том, что у нас на эстраде, как оказалось, существовали джазы... В самый разгар скандала я неожиданно получил письмо Дмитрия Дмитриевича, в котором он... благодарил меня за концерт. Он, конечно, знал, в какой ситуации я оказался, и вот, чтобы как-то успокоить, подбодрить в трудную минуту, написал мне: «Уважаемый Иоаким Георгиевич! Правление СК РСФСР приносит Вам сердечную благодарность за большую работу, проведенную по подготовке заключительного концерта пленума Союза композиторов Российской Федерации. Желаем Вам здоровья и новых больших творческих успехов. Д. Шостакович». Храню это письмо, как память об удивительном человеке, и не могу до сих пор избавиться от... чувства стыда. В горькой и печальной суматохе тех дней я даже не ответил великому музыканту... Из-за скандала с концертом я вынужден был уехать из Москвы, стал ставить по всей стране — работал в Узбекистане, Казахстане, Якутии, затем в Воронеже. В Москву вернулся только через год.
Еще раз удалось мне впрямую соприкоснуться с Д. Д. Шостаковичем в 1971 году, когда отмечалось его 65-летие. В Кремлевском Дворце съездов намечено было провести концерт, посвященный творчеству Д. Д. Шостаковича. Было очень радостно, когда Дмитрий Дмитриевич передал свое пожелание, чтобы этот концерт делал я. Конечно, я с радостью согласился. Во-первых, было необычайно интересно выстроить театрализованный концерт, посвященный творчеству Шостаковича, а во-вторых, очевидно, история с печальным для меня концертом 1962 года ему тоже запомнилась.
Когда мы сделали программу, ее отвезли Дмитрию Дмитриевичу. (Он, к сожалению, был болен, к нему никого не пускали, и в этот раз мне не удалось непосредственно с ним пообщаться.)
Я очень волновался, когда программу отвезли Дмитрию Дмитриевичу. Моя задача была нелегкой. Вечер Шостаковича — это, во-первых, симфонический оркестр, ну, несколько певцов, ансамбль скрипачей ГАБТ. Но тогда это — строгий академический концерт для Большого зала консерватории, а не для Кремлевского Дворца съездов. А здесь громадная театральная сцена, и нельзя было забывать о зрелищной стороне дела. Необходимо поставить театрализованный концерт, чтобы рассказ о творчестве Дмитрия Дмитриевича шел не только через академическое исполнение его произведений (в программе концерта участвовали симфонический оркестр Большого театра СССР и оркестр Московской филармонии, Государственный академический русский хор СССР, певцы-солисты, инструменталисты), а и через зрительное восприятие, через зрительный ряд. Так, в концерте возникли номера — детские танцевальные коллективы, исполняющие танцы на музыку Шостаковича, фрагменты из балетов. Появился даже киноэпизод. В нем принимал участие Борис Чирков, для которого был написан специальный монолог-воспоминание о том, как создавалась музыка к трилогии о Максиме. В конце монолога начинало звучать вступление к песне, действие переносилось на экран, и молодой Борис Чирков пел с экрана: «Крутится-вертится шар голубой...»
Я не знал, как воспримет композитор такое решение его творческого вечера — ведь оно могло и не понравиться ему.
На следующий день было получено сообщение: нашу программу концерта Дмитрий Дмитриевич утвердил без единого замечания, ему понравилось как раз то, из-за чего я волновался,— что концерт будет театрализованный, зрелищный. Значит, он отлично представлял себе, что в Кремлевском Дворце съездов надо делать совершенно иной по стилю и жанру концерт, нежели в концертном зале. Постановочная группа после одобрения Дмитрием Дмитриевичем программы принялась за работу. Просматривались и отбирались номера, делалось оформление сцены, монтировался киноматериал... На концерте успех рос буквально с каждым номером. И когда в финале концерта торжественно прозвучала «Праздничная увертюра», исполненная симфоническим оркестром и сводным военным духовым оркестром, заполнившим всю огромную сцену Кремлевского Дворца съездов, зал встретил её овацией. Долго стояли шесть тысяч зрителей, дружно вызывая автора, не зная, что он сильно болен и на концерте не присутствует...
...Я был горд, что мне удалось хоть в какой-то мере прикоснуться к творчеству великого композитора. Много театрализованных концертов сделал я на сцене Кремлевского Дворца съездов, но эти два запомнились особо.
Об учителях
Мне кажется, у каждого из нас не один, а несколько учителей. Есть учителя, которых не выбираешь, ты приходишь к ним в учебное заведение и поступаешь в их распоряжение на пять лет — хочешь ты этого или нет. А вот, так сказать, в заочные учителя каждый может выбрать кого угодно — это твое неотъемлемое право, тут уж ты сам себе хозяин.
Я считаю, что главные мои учителя — Эйзенштейн и Довженко. И не в том смысле, что я посещал их занятия, выслушивал советы, выносил свои ученические работы на их суд — нет, этого, к сожалению, не было.
Говорю — учителя, потому что увидел и почувствовал в творчестве этих художников близкие для меня устремления, которым я пытался следовать всю жизнь (не в кинематографе, а в других видах искусства — театре и массовых действах). И мне следует только сожалеть, что я так и остался заочным учеником этих великих мастеров.
Учился я у Эйзенштейна и Довженко по их картинам, сценариям, статьям, учился самому главному — масштабу мышления в искусстве, когда объектом эмоционального исследования становится не семья, работа, взаимоотношения между супругами, а Земля, Мир, Человечество и судьбы народные.
И когда в массовых действах, поставленных мной — будь то величественная сцена Кремлевского Дворца съездов или безоглядные просторы поля Куликова,— приходят в движение громады народных масс, неся огромную силу эмоционального воздействия на людей, я признаю, что корни этого — в сложнейшей конструкции массового эпизода на Потемкинской лестнице в «Броненосце» или же в колоссальных массовках «Октября», выстроенных Мастером по железной схеме, с предельно точным, чуть ли не математическим расчетом и изученных мною буквально по кадрам.
И когда в моих спектаклях возникают поэтические обобщения, говорящие о высоком сердечном настрое героев, об их органическом единении с природой, с землей, с судьбой родного народа, я понимаю — это от Довженко. Помните, у Довженко: «Для того, чтобы потрясать, надо быть потрясенным. Для того, чтобы радовать, просветлять душевный мир зрителя и читателя, надо нести просветленность в своем сердце и правду жизни поднимать до уровня сердца, а сердце нести высоко»[75]. Александр Петрович Довженко спрашивал, обращаясь к молодым: «Что вы хотите сказать людям?» Давайте же и мы чаще задавать такой вопрос себе: что я хочу новым произведением или спектаклем сказать людям? Потрясет
ли наших зрителей то, что сегодня волнует меня, и будут ли это, как говорил К. С. Станиславский, «мысли, нужные современности»?
В тот год, когда наше искусство осталось без Эйзенштейна, я, 18-летний юноша, только поступал в ГИТИС и никогда не видел живого Мастера.
А вот с Довженко встречался неоднократно, но разговаривал только однажды, и то — на ходу. И, как ни покажется невероятным — у нас с ним были рядом кабинеты в новом мосфильмовском корпусе. Потому что когда я снимал свой скромный фильм-оперу «Как Джанни попал в ад», Александр Петрович готовился к съемкам «Поэмы о море» и уже начал проводить пробы. С А. П. Довженко мы встречались часто в коридорах, у комнат съемочных групп. Я стеснялся заговорить с ним, хотя мечтал об этом; только торопливо здоровался и шмыгал мимо. По-моему, он каждый раз удивлялся тому, что незнакомый молодой человек, поздоровавшись, старается убежать от него, и подозрительно стал отвечать мне на приветствия.
Но в кабинете его я бывал неоднократно. С одним из его ассистентов — Л. Пчелкиным — мы учились в ГИТИСе, и к нему я часто забегал.
Там я увидел однажды на грифельной доске нарисованную рукой Довженко схематическую картину-раскадровку полиэкрана, тогда еще мало знакомого нашему кинематографу. Экран был разделен на три фрагмента, и в этом триптихе в центре сидела мать над колыбелью, а на боковых экранах сквозь пылающие села мчалась кавалерия со знаменем. Образ был точен, выразителен, нов. Так эпизод и вошел в «Поэму о море», снятую Ю. Солнцевой после смерти Довженко. Этот принцип впоследствии использовался во многих картинах, и без ссылки на автора. Через несколько дней рисунок с доски стерли, на ней появились другие эскизные зарисовки.
А вскоре Довженко застал меня в своем кабинете, так вот случайно произошло наше знакомство и состоялась единственная беседа (это было в сентябре 1956 года). Пристально глядя мне прямо в глаза своими прозрачными зелеными очами, Александр Петрович, узнав, что перед ним оперный режиссер, без обиняков спросил, что я ищу в кино, зачем я пришел в это далекое от оперного театра искусство. Я, как мог, объяснил. Мой ответ, судя по всему, не удовлетворил Довженко. Растерян я был необычайно: я разговаривал с моим кумиром, гениальным Мастером, а он, надо признаться, беседу со мной вел сурово, с пристрастием.
— Сами пишете? — неожиданно спросил он. Я ответил, что пишу сценарии и либретто, но стыжусь, считая графоманией.
— Графоманией станет, если начнете бегать по редакциям и студиям, пристраивая свою «продукцию». Я — о другом. Режиссеру надо писать для себя, проверяя самого себя, постоянно тренируя. Писать надо ежедневно. Это очень полезно для нашей профессии, — наставительно сказал Александр Петрович. И в заключение беседы он пожелал успеха в моем кинодебюте, одновременно с этим выразив сомнение в необходимости траты больших государственных средств на создание такого странного дела, как киноопера... Вот и все. Должен сказать, что разговор этот меня огорчил. (Уверен, что и Александр Петрович вряд ли остался доволен им, если вообще вспоминал о нем.)
Серьезного разговора с Довженко не получилось, да, наверное, и не могло получиться, ибо это был случайный разговор, «на ходу». Вскоре на Мосфильм пришла скорбная весть о его скоропостижной смерти.
Я всю жизнь буду жалеть, что не довелось мне учиться у моих кумиров — Эйзенштейна и Довженко. И все-таки — они мои учителя.
Спасибо им, учителям, далеким моим и бесконечно дорогим великим Мастерам, открывшим истины в искусстве на многие и многие годы вперед, спасибо их созданиям, воспитавшим не одно поколение режиссеров, давшим им заряд творческой энергии на всю сложную режиссерскую жизнь.
А первым моим непосредственным учителем в режиссуре был Леонид Васильевич Баратов. Поэтому о нем — слово особое.
Я всегда удивлялся ему. И восторгался им — безоглядно, без всяких сомнений и аналитических глубокомыслии.
Может, потому, что впервые встретился с ним на вступительном экзамене в ГИТИСе в день своего рождения, когда мне исполнилось всего 18 лет, и встреча эта решила мою судьбу. Леонид Васильевич определил мою жизнь сначала на 5 лет — в ГИТИСе, а затем надолго, вплоть до самого того часа, когда я пишу эти строки, и, думаю, что навсегда.

Л. В. Баратов с учениками в ГИТИСе им. А. В. Луначарского. Среди учеников — С. Штейн, Л. Михайлов, И. Шароев. 1949 год
В кабинете Баратова висели портреты с дарственными надписями К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, Е. Б. Вахтангова. В течение многих лет, общаясь с Леонидом Васильевичем (с августа
1948 года и до последних его дней), я всегда слышал от него эти три имени — его наставников, воспитателей, учителей. И своеобразие творческого и человеческого облика моего учителя, считаю, во многом было определено тем, что запало в его душу в юношеские годы от общения с тремя великими режиссерами.
Среди студентов нашего курса был Л. Д. Михайлов, мой предшественник по Московскому музыкальному театру, С. А. Штейн — впоследствии главный режиссер Большого театра оперы и балета Белоруссии. Занимались мы, не считаясь со временем, заряженные баратовской энергией и его влюбленностью в театр. Тогда в ГИТИСе, в отличие от сегодняшних порядков, не было строгого регламента, никто в 11 часов вечера, как это происходит сегодня, свет по всему зданию не тушил и никого на улицу не выгонял. На многих курсах занятия продолжались до глубокой ночи. Это было в порядке вещей в послевоенном ГИТИСе. В те благословенные, кажущиеся теперь невероятными, времена в коридорах и аудиториях института можно было встретить тех, кто сегодня стал историей советского театра, превратившись в книги, учебники, портреты... Алексей Дмитриевич Попов, Юрий Александрович Завадский, Борис Евгеньевич Захава, Андрей Михайлович Лобанов, Николай Михайлович Горчаков — все они преподавали в институте, любили его, гордились им, считая родным домом.
В ГИТИСе было принято участвовать в студенческих работах соседних курсов, и мы постоянно общались с другими курсами, учась у выдающихся мастеров режиссуры. А в период подготовки к экзаменам они засиживались с нами чуть не до утра. Это было известным, что ли, шиком — вот такая ночная, помимо всех норм и расписаний, работа мастеров со студентами.
Репетировал с нами по ночам и Леонид Васильевич Баратов, забывая про свой возраст, усталость, режим — удержу не было его фантазии, его желанию добиться конечного результата, сломив неумение, робость, а зачастую и упрямство своих учеников. Одержимость своей профессией — в этом тоже была школа режиссуры.
Мы любили его — и как человека, и как художника, и даже по-детски ревновали, когда он оказывал предпочтение кому-либо из нас. Многое произошло за те годы, что его нет с нами. Многое изменилось и в мире, и в искусстве, и в нас самих. А спектакли, созданные им в Большом театре — «Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»,— живы и сегодня, они и сегодня потрясают людей, и люди уходят из театра возвышеннее и чище душой, чем пришли в него. Настоящее искусство не умирает. Мысль, эмоция, движущие художником, живут в его творениях.
Н. П. Акимов
Нет одинаковых спектаклей-близнецов. Все спектакли разные. И там, где в прошлый раз был хохот, сегодня зал молчит, молчит так упорно, что не только я, сидящий в зале, но и находящиеся на сцене начинают недоумевать — что происходит? Ведь все, казалось бы, то же, что и вчера: та же музыка, текст, мизансцены, оформление, даже актеры те же, но все сегодня идет по-другому.
От многих причин зависит, как пройдет спектакль. И не только от игры и пения актеров и обстановки в театре в этот день (а это тоже имеет значение); судьба спектакля зависит и от сообщения газет — тревожно или нет в мире, от настроения зрителей, даже — от погоды.
И все-таки есть еще причина, и она не из последних. И открыл мне ее когда-то Николай Павлович Акимов. Каждый раз, когда Н. П. Акимов приезжал с театром в Москву, он бывал у нас дома. С ним было необычайно интересно. Маленький, с торчащими в разные стороны большими ушами, он напоминал летучую мышь. Однако пронзительный взгляд светлых глаз сразу разрушал эту ассоциацию. Трудно было выдержать пристальность акимовского взгляда — казалось, смотрит он прямо в душу, и нет от него тайн. Говорил он всегда категорично, без всякой лирики, ирония его была всегда беспощадно точна и попадала, что говорится, «в десятку». Тем, кто не общался с ним, рекомендую ознакомиться с портретами, нарисованными им. А рисовальщик он был выдающийся! Там весь он — вроде бы, все всерьез, и образы деятелей культуры импозантны и обстоятельны — и вдруг, как гром среди ясного неба,— какая-то разоблачительная деталь, и все кувырком, все вверх тормашками — и оказывается, не так уж все благополучно за этим шикарным фасадом. Там же есть его портрет с приподнятыми над лбом очками — он, видно, отлично знал гипнотическую силу своего взгляда.
Но он был язвой. Тихой, остроумной и все видящей. Однажды неожиданно я испытал на себе меру его язвительности.

Н. П. Акимов
В 1959 году мне удалось настоять, чтобы Ленкомедию привезли на гастроли в Кремлевский театр, художественным руководителем которого я тогда был. Я, 28-летний худрук, ездил в Ленинград, смотрел спектакли, отбирал для Кремлевского театра. И неожиданно заметил, что Николая Павловича мое появление в качестве «решающего и отбирающего» покоробило — он несколько раз подчеркнуто вежливо бросил реплику: «Конечно, вам, худруку, виднее...» Меня это насторожило. Я преклонялся перед Николаем Павловичем, выдающимся художником-режиссером, и был чрезвычайно предупредителен, не желая ни в чем ущемить его самолюбие. Театр приехал в Москву, с успехом выступал в Кремлевском театре. А Николай Павлович, каждый раз встречаясь со мной в театре, с таинственной улыбкой говорил: «У меня есть для вас сюрприз».
В тот вечер, когда закончились гастроли Ленкомедии, Николай Павлович, с таинственной же улыбкой вручил мне сверток, сказав: «Беру с вас слово, что вы откроете его дома». Дома я, сгорая от любопытства, развернул сверток. Там были плакаты-афиши спектаклей акимовского театра (он всегда сам их блистательно рисовал), на одной из которых было начертано: «Дорогой Ким! (так он называл меня для краткости.) Я рад хоть временно побыть под вашим художественным руководством». Так что пилюлю я получил пусть вроде и безобидную, но, как видите, запомнившуюся.
Однажды он пригласил меня на «Деревья умирают стоя» — новый поставленный театром Ленкомедии спектакль, который Акимов привез в Москву. Мы обедали у нас дома, затем приехали в театр. Когда спектакль начался, мы вошли в ложу дирекции, и Николай Павлович сказал: «Не удивляйтесь, у меня есть одно контрольное место, если там засмеются, то уйдем — значит публика плохая, спектакль плохо пройдет, в другой раз посмотрите». Через две минуты я почувствовал, как Николай Павлович напрягся, почти по-собачьи сделал стойку, и тут зал грохнул на какую-то реплику. Он поморщился, встал и мрачно сказал: «Уйдем. Сегодня жлобская публика». И сколько я ни умолял его, он заставил меня уйти, и мы вернулись домой. Через годы, когда я уже самостоятельно работал как режиссер, я не раз проверял на «контрольных репликах» уровень культурной подготовки зала. И каждый раз убеждался, что многое зависит в судьбе спектакля от того, кто сегодня сидит в зале. Итак, акимовский урок не пропал даром.
В. И. Мурадели
Осетинские песни рождаются в горах. Может, поэтому в них столько силы и мужества. Сказочно прекрасны горы! Суровые утесы, нависшие над пропастями; тесные ущелья, по каменистому ложу которых мчатся на равнину зелено-голубые ледниковые реки; дыханье цветущих альпийских лугов, пестрыми коврами раскинувшихся на склонах; орлы, словно застывшие в прозрачной голубизне неба, парят меж вершин...
Горы рождают отважных людей — воинов и поэтов. «Мы на плечах своих держим горы»,— говорили в старину осетины. Об этом поется в старинной осетинской народной песне...
Песню, звучащую над горами в предрассветный час, поют чабаны, сидя у костра в развалинах древней башни. Поют чабаны о родном крае. И с песней мы словно пролетаем над прекрасной этой землей, где давным-давно родилась древняя культура аланов — оссов...
Вот закончили народные певцы песню. Но тут с другого конца ущелья песня прилетела... И склоны дальних гор отозвались. Везде поют. Новую, рожденную в горах песню.
И певцы решают по старинному осетинскому обычаю справить праздник «Рождения песни» — идти по аулам, собирая людей, объединяя их песней...
Так мы вместе с народными певцами совершаем путешествие по всей Осетии, где труд и песня слились воедино, славя человека...
Почему пишу об этом?
Ведь я должен писать о Вано Ильиче Мурадели, а пишу об Осетии, о ее далеком прошлом, о сегодняшнем дне?
Мы подружились с Мурадели в Осетии, во время подготовки Декады осетинского искусства. Вано Ильич был художественным руководителем декады, я — ее главным режиссером; естественно, разногласий возникало немало, и находить общий язык было далеко не всегда легко и просто.
То, о чем я написал выше, был сценарий заключительного концерта-спектакля, который мы задумывали творческой группой: в нее входили, кроме нас с Вано Ильичем, осетинский писатель Максим Цагараев, композитор Христофор Плиев и другие. Нам хотелось рассказать об истории Осетии, о ее народе, о тех корнях, которые взрастили в народе мужество, волю к свободе, и о том, что питало осетинское народное искусство. Мы много ездили по республике — в горские аулы, к шахтерам Садона, в равнинные колхозы.
В наших многочисленных поездках в горы за два года пришлось встретить массу людей, различных по складу ума, характера, по возрасту и темпераменту; и со всеми Вано Ильич всегда находил верную интонацию, которая неизменно раскрывала сердца людей. И с ним тоже все говорили как со своим, близким, понимающим человеком. Человек Кавказа, он на Кавказе был своим для всех.
Сравнивая Мурадели, каким я знал его в Москве, с тем Вано Ильичем, с которым мы работали на Кавказе, должен заметить, что кавказский Мурадели был мне ближе и понятней: там он словно раскрывался, становился проще, искренней, жизнерадостней.
Его любили на Северном Кавказе. Все знали: опера «Великая дружба» — о народах Северного Кавказа, ее герои — осетины, ингуши, чеченцы, словом, «весь Кавказ», и они гордились этим.
Может быть, здесь сыграла роль и трудная судьба этого произведения Вано Мурадели, о которой на Кавказе тоже не забыли.
Однажды мы с группой московских гостей, среди которых были А. Г. Новиков и В. И. Мурадели, на нескольких машинах поехали в Чечено-Ингушетию. Когда мы ехали по Осетии, колхозники выходили на дорогу, останавливали машины, гостеприимно приглашали нас к столам, накрытым под деревьями, на берегу белопенных горных речек.
Как правило, ответное слово говорил Вано Ильич. Этого права у него никогда никто не оспаривал, ибо лучшего тамады я в своей жизни не встречал — только он мог говорить так увлеченно, так витиевато-красиво строить фразы, безмерно превознося объект своего тоста: сказывалось кавказское происхождение Мурадели.
После сольного спича нашего тамады автопоезд продолжал движение, как торжественно объявляли наши шоферы, «к границам Осетии».
И вот, когда мы пересекли «пограничную речку» и въехали на территорию Чечено-Ингушетии, произошло событие весьма неожиданное. У дороги собралась большая группа людей, одетая в национальные костюмы — мужчины были в черкесках, часть — в бурках; папахи были у всех; от этой группы отделились несколько стариков, ведущих на поводу прекрасного скакуна. Они подвели скакуна к Вано Ильичу и торжественно вручили ему повод: это был дар Мурадели от его почитателей. Эффект был настолько неожиданным, что все растерялись: словно сместились века, и мы оказались в легендарных временах нартовского эпоса, когда героям дарили коня в знак наивысшего уважения.
Первым нашелся Вано Ильич: во всю мощь прекрасного своего голоса он обратился к собравшимся со словами благодарности. Контрапунктом к этой сцене звучали реплики его супруги Наталии Павловны, взволнованной предстоящей перспективой: «Куда же мы эту лошадку денем? — причитала она,— в гараж московский, что ли?» Но все кончилось благополучно: находчивый Вано Ильич закончил ответную речь тем, что он, в свою очередь, дарит скакуна самому передовому совхозу республики. «Ты видел, сын? — гордо спрашивал он потом.— Знаешь, в «Великой дружбе» есть похожая сцена...»
Энергия в нем огромна. С самого раннего утра он писал музыку. Наши номера в гостинице обычно были рядом, и часов с шести утра начиналось... он сочинял музыку. Затем — репетиции в музыкальном театре, заседание штаба декады; репетиция ансамбля песни и танца; совещание в обкоме партии или министерстве культуры; вечерняя репетиция в театре и до глубокой ночи обсуждение дня, планы на завтра.
Как он успевал все это — не знаю. Но успевал. И всегда — с полной отдачей. Тратя огромный свой темперамент, щедро раздаривая сердце свое.
Мой сценарий, о котором я упоминал вначале, увлек Вано Ильича, и он решил написать не просто заключительную песню, а целую кантату, построенную по этому сценарию. И написал. Написал искренне, горячо, с ясной мелодической линией, вобравшей в себя и осетинские национальные истоки, и вместе с тем ту «интонацию времени», которой владел Мурадели в своих песнях.
В течение довольно-таки длительного времени я слышал по утрам за сценой могучие аккорды, которые Вано Ильичу удавалось извлечь из старого пианино, и патетические возгласы отдельных фраз. Но на мои просьбы показать хоть что-нибудь он отмалчивался.
И вот наступило то долгожданное утро, когда я проснулся не от вздохов и стонов разбитого пианино, а от настойчивого стука в дверь и голоса Наталии Павловны: «Режиссер, Ванечка зовет».
Я ворвался в соседний номер, забыв про «доброе утро». Меня можно понять — я ждал этого момента долго (тем более что мое нетерпение подогревалось музыкальными упражнениями за стеной). Автор сидел за пианино торжественный и радостный.
— Садись, дорогой, отдыхай, дорогой,— так он встретил меня. А затем заиграл и запел с какой-то наивной и радостной гордостью (видно, что ему нравилось новое его детище).
Вскоре он с присущей ему в работе яростью учил со сводным хором и солистами кантату, участвовал в сценических репетициях, спорил, переживал, даже — плакал... Да, и такое бывало у Вано Ильича, когда он погружался в работу, и зачастую трудно было уловить — где это искренне, а где шло, как говорится, «чистое актерство». (А этого у него тоже было в избытке — думаю, не стань он композитором, он ушел бы в актерское дело и был бы там не на последних ролях...)
Торжественная кантата стала финалом заключительного концерта-спектакля всей декады. Она украсила финал, подняв его до большого эмоционального накала. «Радостным праздником осетинской культуры» назвала «Правда» заключительный концерт декады осетинского искусства и литературы в Москве[76].
Конечно, не все шло гладко за два года, что мы готовили Декаду. Была у нас ссора. Очень тяжелая для нас обоих. Она случилась не сразу, а назревала постепенно. Мурадели как худрук дипломатничал, уклоняясь от запретов там, где они были необходимы, предпочитал говорить комплименты вместо того, чтобы сказать людям правду в глаза.
Однажды, после просмотра целого концертного отделения, подготовленного ансамблем песни и пляски специально к декаде в Москве и именуемого гордо «Королева полей» (шел 1960 год, кукуруза тогда была в почете и именно так повсеместно называлась), состоялось обсуждение. Ансамбль 45 минут бегал по сцене с кукурузными стеблями и початками в руках, пел о кукурузе, танцевал «танцы кукурузы», словом, дело было явно «гробовое», и назревал скандал. Я был в панике — до отъезда в Москву осталось полтора месяца... На обсуждении глаза всех присутствующих уставились на Вано. Он долго молчал, раздумывая, очевидно, куда повернуть ход обсуждения. Затем нашелся: достал свой большой платок, пустил слезу и с театральным придыханием произнес: «Такого я еще в своей жизни не видел!» Все восприняли это как одобрение, и на том, собственно, обсуждение закончилось. Когда мы возвращались в гостиницу, я напал на Мурадели, обвиняя его, что он ушел от разговора и что теперь придется везти «Королеву полей» в Москву. Но Мурадели защищался:
— Сын, дорогой мой, а что я сказал? Я сказал, что такого еще не видел. А это каждый пусть понимает по-своему. Я же не похвалил эту чертову «Королеву».
— Но ведь у вас в руках власть, Вано Ильич, вы обязаны были ее употребить!
— Знаешь, сынок, как надо пользоваться властью? Чтобы потом, когда ты ее потеряешь, тебя не убили!
Он отшутился на этот раз, но наша ссора все равно назревала.
Незадолго до декады композитор X. Плиев закончил оперу «Коста» по либретто, написанному Максимом Цагараевым и мной. Опера была посвящена Коста Хетагурову — пламенному борцу за свободу, поэту-революционеру, многие стихи которого стали народными песнями, оставшись навсегда в памяти осетинского народа. И неожиданно наш худрук проявил категоричность. Вано Ильич не поддержал нас, когда мы предложили поставить оперу для показа в Москве. Он уверял, что осталось мало времени, что коллектив музыкального театра и так работает «на пределе», куда же тут еще ставить новый оперный спектакль? Думаю, что к этому прибавилось еще и некоторая ревность автора — о Северном Кавказе была тогда единственная опера, и называлась она «Великая дружба». С ней было у Мурадели связано много душевных травм, это было его больное и потому особенно нежно любимое дитя, а тут вдруг какие-то «мальчишки» написали новую оперу о Северном Кавказе, да еще повезут в Москву, где она, естественно, окажется в центре внимания...
В ответ родилась версия — поставить фрагменты из «Великой дружбы» и построить на этом пролог заключительного концерта осетинской декады в Москве.
Но здесь запротестовал я, потому что сценарий заключительного концерта был мной уже написан, он строился совершенно в ином ключе — как народный праздник, где концертное действо развивалось единым потоком, без остановок и статики, и введение оперных сцен нарушило бы стремительную динамику развивающегося действия.
Мурадели бушевал. Раскаты его красивого баритона раздавались то в кабинетах министерства культуры, то в гулких фойе осетинского театра, то в гостинице (номера наши были, как всегда, рядом, и я сквозь стену постоянно слышал, как он то играл, то пел арию Комиссара из «Великой дружбы», то громогласно, как говорится, «нес» меня, прекрасно зная, что я слышу весь довольно-таки нелестный для меня текст).
В результате произошел разрыв, который отдалил нас друг от друга на длительное время. Но «Коста» несмотря на трудности мы все-таки поставили. О том, как ставился спектакль, я с удивлением вспоминаю до сих пор. Все участники (а их было много — солисты и хор театра, хор музыкального училища, солисты ансамбля песни и танца, симфонический оркестр филармонии, большая группа самодеятельности — более 300 человек!) работали зачастую по ночам, так как днем все были заняты репетициями в своих коллективах.
К этому надо добавить, что и мы, постановочная группа (дирижер — В. Дударова, я, постановщик спектакля, хормейстеры А. Хазанов и 3. Дзудцати, балетмейстер С. Корень, композитор X. Плиев), тоже целые дни репетировали, и на вечерние и ночные репетиции оперы приходили порядком усталые.
Но всеобщее воодушевление, которое царило на репетициях, зажигало и нас. Думаю, что всех окрыляло сознание того, что мы создаем первую в истории осетинского искусства национальную оперу, и посвящена она Коста.
И вот — общественный просмотр нашего спектакля. Еще перед самым просмотром Вано Ильич со свойственным ему темпераментом авторитетно заявил, что он не верит в то, что оперу — пусть даже одноактную — можно сделать в короткий срок и в таких условиях. Но на генеральной репетиции все участники с такой отдачей, так самозабвенно провели спектакль, что впечатление создалось отличное.
Когда закончился просмотр и отгремели аплодисменты, все ждали, естественно, слова Мурадели. Наступила пауза, напряженная до предела: на него смотрел весь зал, ибо всем была известна его негативная позиция в отношении оперы «Коста». Смотрела и вся сцена — многочисленные участники спектакля. Художественный авторитет Мурадели там, на Северном Кавказе, был непререкаем — он это прекрасно знал. От его мнения сейчас зависело многое. И вот он поднялся, медленно вышел на сцену и после большой паузы сказал — громогласно, с перекатами своего красивого баритона, и патетично, как он любил: «Я счастлив, что я ошибся! Сегодня — великий день в истории осетинской культуры: сегодня родилась первая осетинская опера...»
Что тут поднялось! Все участники бросились к нам, схватили на руки, стали качать (не забывайте об осетинском темпераменте!). Но больше всех качали Вано Ильича — он нашел мужество признать при всех свою ошибку. А на мужество в Осетии счет особый... Мы помирились с Вано Ильичем. Он первый протянул мне руку. «Мы с тобой чересчур горячие»,— объяснил он. И как прежде назвал меня «сыном» и «деточкой». Впоследствии мы никогда не вспоминали о нашей ссоре.
Опера «Коста» шла в Москве, в Кремлевском театре.
«Первенец осетинской оперы сразу же стал творчески взрослым. Такое удачное рождение встречается нечасто!»,— писала газета «Советская культура».
Закончилась осетинская декада, и мы как-то разминулись с Мурадели. Не было ни встреч, ни телефонных разговоров.
Прошло время. И вот, в 1962 году, глубокой ночью — неожиданный телефонный звонок и голос в трубке — такой характерный, с подчеркнутым кавказским акцентом, узнаваемый, который не спутаешь ни с кем: «Как ты живешь, мой сын? А наши пути опять сходятся... Конечно, если ты не будешь против...»
Речь шла о постановке силами Большого театра, Всесоюзного телевидения и радио нового произведения В. Мурадели — оперы «Октябрь» в Зале имени П. И. Чайковского и Колонном зале Дома союзов. Конечно, я согласился участвовать, тем более что дирижером был Евгений Светланов.
На следующий день я был у Вано Ильича. Он с увлечением играл и пел всю оперу, а я довольно-таки уверенно, с листа, подпевал ему в дуэтных и хоровых эпизодах.
Самолюбивый автор время от времени подозрительно поглядывал на меня (он вообще был человеком подозрительным, и дорого это обходилось впоследствии самому Мурадели). Наконец он спросил: «Скажи, сын, откуда ты знаешь мою оперу?» Мне тогда показалось, что Мурадели так и не поверил моему объяснению, что читаю с листа. Но я в самом деле видел клавир впервые, и легкость моего прочтения обусловливалась достаточной простотой музыкального материала, близкого песенному.
В декабре состоялась премьера оперы, прошедшая с большим успехом, чему способствовал блестящий состав исполнителей (дирижер — Е. Светланов, хормейстер — К. Птица, симфонический оркестр и Большой хор Всесоюзного радио, солисты Большого театра и Всесоюзного радио).
Я рад, что был первым постановщиком «Октября» — своеобразного поиска агитационно-плакатного решения современной оперы, поставленной в плане театрализованной оратории.
И в заключение — один давний документ. Он написан В. Мурадели обо мне. В этом документе хорошо угадывается приподнятый, патетический стиль Вано Мурадели, его своеобразное мышление в масштабах, я бы сказал, глобальных — иначе он не мог.
«С И. Г. Шароевым меня связывает длительное творческое содружество. Я был свидетелем его выдающихся работ. Высокая, многогранная одаренность, широкий творческий кругозор и тонкий художественный вкус придавали его работам ту сценическую праздничность, которая должна сопутствовать простому выражению художественного образа.
Работая рядом со мной над подготовкой Декады северо-осетинского искусства в Москве в качестве главного режиссера декады, он неизменно находил самые верные и яркие решения и, что особенно дорого для советского партийного искусства — из-под его режиссерской руки звучали возгласы современности (!).
Просто и глубоко, увлекательно и празднично — вот девиз творческих устремлений И. Г. Шароева, которым он никогда не изменял. Вано Мурадели. Гор. Москва, 4 апреля 1968 г.».
Я перечитываю эти строки и словно вновь слышу интонации голоса Мурадели, его всегда приподнятый тон, своеобразную лексику, его романтическую музыку, такую ясную и простую, ощущаю его горячность и темперамент.
Русская песня
«...Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю!.. Я не могу жить без песен!»[77] Это — Гоголь. Это ему принадлежит экстатическое признание. Ему, постоянно питающемуся песенным народным творчеством, которое вошло в его поэтическую прозу могучим пластом, определившим и образность, и возвышенную лирику и многоликий юмор его гениального творчества. «...Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?»[78]
Вслушайтесь в гоголевскую интонацию — да это ведь тоже песня, пронзительная и щемящая, как те народные песни, которыми был потрясен творец «Мертвых душ»... И ведь именно ему принадлежит проникновенное определение песенной звуковой стихии — он назвал ее «поэзией Поэзии»[79].
...Я хочу рассказать о человеке, которого почти забыли. Несправедливо забыли. Был он славен и знаменит, в центре внимания, а вот ушел он и — молчание. Лишь изредка прозвучит по радио его песня, да мелькнут в случайном телевизионном калейдоскопе старые неумелые съемки концертных номеров его хора, рожденного им, взлелеянного, выпестованного и так и не названного его именем...
Он так и проходил всю жизнь чудаком, всегда улыбчивым, с открытым сердцем, влюбленным в дело своей жизни — народную песню, отстаивающим чистоту народного творчества яростно, отчаянно, отчетливо понимая благородную свою миссию...
Вот не стало его — и другой не явился, не пришел. И то, что его нет — большой урон для русской культуры, для всех нас.
...К. И. Массалитинов. Его знали и любили, считались с ним и Шостакович, и Хренников, и Щедрин, а Асафьев определил творчество Массалитинова крылатой фразой: «Народный мелос — живая вода для композитора-профессионала. Вот он в совершенстве познал эту старую и вечно живую истину»[80].
Он был композитором поистине народным, творчество его было плоть от плоти народной жизни, и на всем его многообразном творчестве был отпечаток подлинного русского таланта — с его широтой, раздольем, искренностью, известной долей безалаберности, добром большого сердца, щедрого, открытого людям и уязвимого совсем по-детски, беспомощного и обидчивого...
Народный композитор. С этой точки отсчета мы и должны вести разговор о Массалитинове, одаренном удивительным даром самородка благословенной песенной земли воронежской. Народная песня жила в нем, в его душе неотделимо, и он постоянно был в песне. Песня определила его мышление, манеру разговаривать, даже писать письма. Вслушайтесь в интонацию его речи, и вы убедитесь — в ней песенная основа:
«Здравствуй, дорогой друг и единомышленник Иаким!
Поздравляю тебя, матушку, всех родных и близких с Новым годом. Счастья, радости и здоровья всем вам. А еще и друзей старых не забывай и привечай». Или еще:
«Дорогой Иаким!
Прекрасный, по нынешним временам, вечер, когда соловьи поют не смолкая, и, представь себе, в окно врываются разные трели-мотивы, и угадываешь, какой композитор и где их использовал... Только вернулся с рыбалки-охоты на плотву, теперь это у меня самая ценная на вкус, а учитывая, что теперь и осетрина железом, ржавчиной попахивает, плотва — царь-рыба, кто это понимает, конечно. Вот приехал бы ко мне, вдоволь накормил бы отборной рыбкой...»
Человек песни, он тонко ощущал родную природу, прекрасно знал свой край, гордился воронежской землей, любил ее и тосковал по ней в долгие отлучки. Эта любовь к земле, к природе у него была врожденная, наследственная — от родителей, от многих и многих поколений землепашцев, хлеборобов... Так же, как и любовь к народному мелосу, переданная ему отцом и матерью, знатоками народной песни и прекрасными исполнителями. Так что семья, крепкая русская крестьянская семья, заложила в маленького Костю хорошую душевную основу, привив ему любовь и уважение к народному творчеству. Честь и хвала им, простым русским людям!
Музыкальные университеты Массалитинова были непродолжительны: Воронежский музтехникум, параллельно пианист в ресторане (он участвовал в ресторанном инструментальном трио, в репертуаре была классика и народные песни (!). Представьте себе — ресторан. Ночь. И все, что обычно связано с ночным рестораном, когда наступает кульминация «ресторанного действа»; а на маленькой эстрадке трое бледных юношей — пианист, скрипач и виолончелист,— исполняющие Чайковского, а может, Моцарта, и в изумлении смотрящие в бушующий полутемный ресторанный зал...
Затем — до самой войны — работа в самодеятельности, участие в качестве концертмейстера в «Синей блузе», заведывание музыкальной частью в воронежском ТРАМе. Первую песню в своей жизни Массалитинов написал к 1 Мая 1930 года по заданию городской организационной комиссии, и называлась она в духе того времени — «Даешь пятилетку в четыре года!». Воронежские рабочие пели ее на первомайской демонстрации.
Так он начал. Но его потянуло в другую сторону — к богатому, неиссякаемому фольклору воронежского края.
Народная песня стала постепенно возвращаться в его сердце. Он вернулся к ней, но пока лишь в самодеятельности: хоры швейной фабрики, колхоза «Железнодорожный», объединенный хор самодеятельности.
А народная песня на воронежской земле не затихала никогда. В середине 20-х годов в селе Александровка, на родине Пятницкого, А. Р. Лебедева организовала народный ансамбль. Этот сельский ансамбль в 1928 году ездил в Москву, выступал в концертах, поразив москвичей подлинностью и мастерством исполнения русских народных песен. Да и в других воронежских селах немало было талантов из народа — Гвазде, Лосеве, Воронцове. В 30-е годы в Воронеже был создан Дом народного творчества, деятельность которого направляли К. И. Массалитинов и А. В. Руднева (будущий доктор искусствоведения, профессор). Руководство ансамблем баянистов в селе Лосево, ансамблем жалеечников в селе Нижний Кисляш, праздники песен, смотры, концерты художественной самодеятельности — вот основная сфера деятельности Массалитинова до начала 40-х годов. Все это — подготовительный период, растянувшийся на многие годы. Точку в этом долгом процессе поставила война. Трудно сейчас предположить, когда жизнь Массалитинова сложилась такой, какой мы ее знаем, что было бы, если б не война. Может, он так бы и остался деятелем областной самодеятельности на всю жизнь, не призови его к подвигу — человеческому и творческому — грозный 1941 год.
В первые же дни войны Массалитинов ушел на фронт. В 1942 году он вернулся в Воронеж, бывший в тот год фронтовым городом (немцы взяли правобережную часть Воронежа). К этому времени Массалитинов написал более 20 песен — о борьбе с фашизмом, о героизме советских людей. Песни исполнялись в частях Юго-Западного фронта, печатались во фронтовой газете. Война сделала его подлинным пропагандистом, политработником, общение и сотрудничество с военными корреспондентами Юго-Западного фронта привели к рождению песни на стихи А. Твардовского «У дороги дуб кудрявый». Но главное его дело, дело его жизни, было еще впереди. И вот, когда в конце 1942 года Управление по делам искусства при СНК РСФСР по ходатайству Воронежского облисполкома приняло решение о создании в Воронеже профессионального русского народного хора,— пробил его час.
Веками над воронежской землей звучали прекрасные народные напевы. На Руси всегда хорошо пели, но воронежская земля не зря издавна называлась певучей, песенной — так звонко и задушевно, как поют в воронежских деревнях, не поют, по-моему, нигде. Земля ли плодородная, черноземная тому причиной, или солнце обильное, и морозец крепкий, и бесконечные золотые поля пшеницы, и многие километры яблоневых садов, и приволье, и воздух чистейший, которым не надышишься?
Впервые в 1958 году вместе с Массалитиновым мы поехали по воронежским степям, и влюбился я в этот удивительный край. Много прекрасных народных песен родилось здесь и улетело по всей России. Равно как и песенная поэзия воронежских поэтов — А. Кольцова, И. Никитина — стала российской славой и гордостью. С детства впитавшие воронежскую крестьянскую песню, они обрели силу творческого полета, ибо народный мелос, войдя органично в их поэзию, наполнил ее непреходящей силой, а поэты давали воронежской народной песне чеканную поэтическую форму. Песня народная зрела, бурлила в народе, наливалась новыми жизненными соками, искала выхода.
В начале века на воронежской земле М. Е. Пятницкий собрал первый русский народный хор. Отсюда, из села Александровка, начался славный путь скромных деревенских певцов и певиц, давших новое дыхание русскому искусству. Прошли многие годы. И вновь воронежская земля дала богатые песенные всходы, и с новой силой зазвучала воронежская песня.
В начале января 1943 года, в разгар боев за Воронеж, К. М. Массалитинов и Г. Б. Рогинская (первый директор хора, жена Массалитинова) отправились в глубинку, в дальние села, чтобы собрать певцов из народа в создающийся Государственный Воронежский хор. Они собрались в селе Анна, под которым шли ожесточенные бои. И первое свое «гастрольное турне» хор совершил пешком, выступая на передовой, в землянках, в госпиталях. И тогда уже мощно звучала в хоре никитинская «Русь», положенная на музыку Массалитиновым:
Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася...
Именно эта песня была нужна тогда, когда враг терзал нашу землю — гимн великой России, силе ее и вечной жизни, многострадальной Родине нашей...
А вскоре — первый концерт в Воронеже. В финале исполнялась «Былина об Илье Муромце», заканчивающаяся колокольным звоном (за неимением колоколов Массалитинов использовал гильзы артиллерийских снарядов). Таким — в прифронтовой полосе, буквально в нескольких километрах от линии фронта — рождался Государственный Воронежский русский народный хор. Массалитинов был счастлив — главное дело его жизни состоялось. Он неоднократно сам говорил мне об этом.
И началось новое в его жизни, в его творчестве — поиск самостоятельного пути. Росло мастерство Воронежского русского народного хора, и вместе с хором рос Массалитинов, окончательно осознав свое призвание как народный композитор и как подвижник, энтузиаст русского народного творчества. Вся жизнь Массалитинова готовила его к той ответственной, прекрасной миссии, которую поручило ему время, российское искусство.
При нем Воронежский хор имел свое уникальное лицо, его нельзя было спутать (даже по радио, узнав по первой ноте) ни с каким другим коллективом. И дело тут не только в особенности воронежского песенного творчества, («ладотональное своеобразие с его диатоникой и внутриладовой переменностью, преобладание секундового и тонико-субдоминантного соотношения в гармонических оборотах...[81]), что, конечно, тоже имело место; но, очевидно, и в той особой звонкой жизнерадостности и проникновенности, которая отличала Воронежский хор массалитиновского периода от всех его собратьев. Вот нет Массалитинова, «и диатоника и внутриладовая переменность» те же, да хор другой, не тот — рядовой, в списке таких же рядовых...
Мы встретились с Массалитиновым в 1958 году. Этот год был отмечен уникальным событием в нашей культуре — проведением единственной русской декады в Москве — Декады Воронежскрго искусства. В качестве главного режиссера декады я весной приехал в Воронеж. С Массалитиновым мы не были знакомы. Конечно, я-то его знал заочно — слишком громкое тогда это было имя. При первой же встрече он в меня буквально вцепился. А я, увидев его, даже растерялся: говорит сбивчиво, понять его трудно, руками машет, ходит вразвалочку, да еще нос брюквой или репой — не помню, как уж там. И сразу на «ты». Рассказал, что театрализованную сюиту написал, ставить обязательно нужно. «Край родной» называется. (Это я понял из того стремительного словесного потока, который он на меня обрушил.) Интереса к этому предложению я не проявил, но Массалитинов затащил меня в хор — послушать музыку: «Может, посоветуешь что?»
Весь хор был на местах, одет, готов. Мы вошли, и сразу началось исполнение. Конечно, все было срежиссировано Массалитиновым, но он смотрел на меня своими фиалковыми глазами (у него был тогда именно такой цвет глаз, потом, с годами, глаза выцвели, посветлели) доверчиво и вполне невинно. Сюита произвела двойственное впечатление. Там были куски просто замечательные по музыке — «Горе-горюшко», «Красногвардейская», «Свадебная комсомольская» и ряд других. Но что делать с десятью музыкальными эпизодами, сюжетно не связанными между собой? Да и от народной музыки я был тогда вдалеке.
А потом я постепенно проникся к нему доверием.
Это трудно объяснить, но есть у режиссеров «шестое чувство» — доверие к автору. Я замечал — оно рождается сразу, при первом общении, или же, как правило, никогда. Что это? Какое-то подсознательное ощущение художнической общности, не декларируемое в обширных докладах и теоретических высказываниях, а близкое, родное ощущение времени, эмоциональности, воплощенное в музыке, в музыкальных образах. Много работая с композиторами, я убедился — далеко не к каждому из них возникает такое доверие. Без этого работать невозможно, то есть возможно, конечно, и многим приходится, но это мучительное состояние, которое никогда, по-моему, к добру привести не может — по крайней мере, к добру творческому...
Примерно час звучал «Край родной», и за этот час я проникся к автору уважением и даже — удивлением. Из-за музыки, конечно. Меня поразило — музыка динамична, активна, в ней, внутри замкнутых номеров, заключена своеобразная музыкальная драматургия с точно подготовленной кульминацией. Вместе с тем музыка с подлинной народной основой: то звучала грусть-тоска затаенная, то ширь и простор такой, что дух захватывает, то вдруг взрывалась она буйным раздольем и весельем, и главное — мелодии, мелодии, бесконечные и свежие, неизбитые и вместе с тем в святых традициях русской народной песни...
И еще я заметил — он совершенно не следит за собой, не тратит времени и эмоции на это. Ведь каждый из нас держит самого себя под строгим контролем. Когда мы на людях, в нас словно два человека — один ходит, садится, встает, смотрит, высказывается, удивляется, другой — внутренний — строго и придирчиво следит за первым, постоянно контролируя, предостерегая, одергивая и критикуя первого. Стыдно в этом признаться, но это так. Массалитинов находился в другом измерении. Он весь погружался в музыку. Сопереживал всему, что происходило,— то и дело лицо его вспыхивало какой-то совершенно детской улыбкой, лучились фиалковые глаза, но вдруг, когда что-то не получалось, он дергался, и поперек его собственной музыки возникал текст, который я не рискну привести здесь хотя бы частично (об этом словесном жанре очень точно обмолвился Пушкин — «живописная манера выражаться»). Я смотрел на него с интересом, понимал, что встретил человека незаурядного, талантливого и непосредственного. Наверно, ни он, ни я не могли предположить, что с этого дня началась наша близкая дружба на многие годы.
Кончилась вся эта история с прослушиванием музыкальной сюиты «Край родной» для меня неожиданно. Массалитинов, сидевший рядом, исподтишка поглядывал за мной: он видел, что музыка мне нравится. Как только кончилось исполнение, Массалитинов встал и громко и радостно объявил: «Вот — Яким! — он так тогда меня назвал и потом звал 18 лет.— Из Большого театра (я в самом деле тогда еще был в ГАБТе). Большой друг нашего хора. Будет сюиту ставить!». Я обомлел, хор зааплодировал, а затем спел короткую «Славу свет Якиму Григорьевичу». Отступать после этого было некуда, и дело совершилось. Массалитинов ликовал, как дитя, заговорщически подмигивал мне, подталкивал в бок, дескать, не робей, Яким! Тут же он напустил на меня Мордасову, Золотареву, Паршина, Осипову, группу частушечниц. Короче говоря, через 15 минут мы уже репетировали выход Мордасовой с молодыми частушечницами (тогда в хоре была творческая группа молодых певиц, которые под руководством Мордасовои не только исполняли, но и сочиняли частушки). Среди этой группы была и совсем молоденькая — ей было лет 15, не более — Шура Стрельченко. Мы много в дальнейшем репетировали с этой молодой группой — с ними было очень интересно. Для меня работа с Воронежским хором открыла глаза на многое, над чем я раньше не задумывался.
Уже тогда, в 1958 году, Массалитинов стремился отойти от привычной формы концерта народного хора и мечтал о создании целостных песенных спектаклей. Отрывок из его письма, написанного мне, объясняет эту позицию: «Действа — о чем заявил М. Пятницкий с земляками в 1912 — 1914 гг.— «За околицей», «Посиделки», «В ночном»,— это жизнь для Воронежцев (так и написано с заглавной буквы.— И. Ш.). Я это развил, показал советскую деревню, созидательную жизнь сегодня.
Вот твой разговор — хор надо делать иным. Это не значит, что песню забыть, все будет строиться на песнях!»
Но надо было придумать сценический прием, связавший все эпизоды в единое действие — в этом была главная задача. Я видел решение в том, чтобы, введя в музыкальную ткань поэтическую линию, связать смысловым ходом десять самостоятельных эпизодов, а сами эпизоды стыковать в их контрастном сопоставлении и искать не плавных драматургических переходов, а ту систему концертного действия, которую впоследствии, много лет спустя, я определил как «монтаж номеров». И права музыковед Н. Н. Емельянова, назвавшая «Край родной» театрализованным песенным повествованием.
Мы решили с Массалитиновым, что каждый из десяти эпизодов должен стать законченной песней-картиной и стремились в постановке добиться этого. Когда через два года издавался «Край родной» с моими режиссерскими комментариями, мы с Массалитиновым писали: «Мы решили воспользоваться приемом перелистывающихся страниц истории. Перед глазами зрителей одна за другой возникают картины, создается впечатление, как будто перелистывается огромная книга истории Советского государства... Такое решение позволяет придать сюите театральную форму и вместе с тем сохранить условные рамки концерта»[82].
Сейчас, когда подобные песенно-стихотворно-танцевальные сюиты поставлены чуть ли не в каждом профессиональном и самодеятельном народном коллективе, когда они набили оскомину и от них устали все — и зрители, и исполнители,— всерьез вести разговор о «Крае родном» как об открытии жанра, наверное, по меньшей мере, наивно. Однако напоминаю — речь идет о событиях 30-летней давности, и тогда «Край родной» был в самом деле открытием. Так он и был воспринят зрителями, и это было подтверждено в многочисленных рецензиях. И то, что сюитность после «Края родного» стала сначала традицией в народных коллективах, а в дальнейшем превратилась в штамп (штамп, утверждали классики режиссуры, омертвевшая традиция), от которого по сей день не могут избавиться эти коллективы, подтверждает, что в «Краю родном» были выявлены закономерности, которые дают право говорить о рождении жанра. Это можно оспаривать, ибо прошло достаточно много времени и многое изменилось и в искусстве, и в наших оценках, но хорошо бы нам говорить о том, что было много лет назад без поправок с позиций сегодняшних, разрушающих подлинную картину происходящего в развитии народного творчества в 50-е годы. Это был первый опыт создания современного народного песенно-танцевального спектакля, где песни, танцы, стихи, задорные частушки, красочные хороводы были сведены в единое праздничное зрелище.
Мы привезли спектакль на декаду в Москву, играли его в Зале имени П. И. Чайковского с большим успехом. Газеты писали в основном о «Крае родном». Поддержка была полная. А выдающийся советский певец М. Д. Михайлов высказал в рецензии на «Край родной» мысль, с которой мы уже тайно носились с Массалитиновым. «Слушая «Край родной», я думал, что это как бы подступ к созданию такой народной оперы. Вот почему мне хочется обратиться к композитору К. И. Массалитинову с советом подумать о подобном сочинении — оно, несомненно, в характере его дарования»[83].
...Когда «Земля поет» — современная народная опера-песня, как мы ее назвали, прошла в Кремлевском театре и сцены из спектакля в Кремлевском Дворце съездов, на коллегии Министерства культуры РСФСР состоялось обсуждение этого большого нового дела. Боже мой, что там творилось! Спор вокруг спектакля разгорелся большой. Мнения, как говорится, разделились. Резко враждебную позицию занял совершенно неожиданно Анатолий Новиков. В основном он отвергал саму попытку театрализации хоровых коллективов, ратуя за привычную, сложившуюся, чисто концертную форму. «Совмещение несовместимого» — назвал он нашу постановку. Более всего он ругал меня за разрушение вековых традиций: избранный путь неприемлем для народных коллективов, хор должен заниматься своим делом — концертными выступлениями. С ним спорили композиторы, музыковеды, специалисты народного творчества.
П. Казьмин, тогдашний руководитель хора имени Пятницкого, поддержал нас, поддержал стремление «создать спектакль сугубо актуальный, построенный на современной национальной основе»[84]. Он также напомнил, что этот спектакль продолжает традиции М. Пятницкого, смело вводившего в свои работы элементы театрализации, что принцип этот лежит в основе русского народного творчестэа.
И. И. Мартынов, крупнейший наш музыковед, писал: «Воронежский хор создал увлекательный музыкальный спектакль на современную колхозную тему, очень непосредственный и искренний по своему эмоциональному тонусу, радующий солнечностью жизненных образов. Более того, опера-песня «Земля поет» наметила путь развития нового, очень важного, по-настоящему демократического жанра»[85].
В. Фере утверждал: «Спектакль «Земля поет» мог бы послужить примером чистоты народного стиля, хорошего вкуса, правдивости и простоты актерского исполнения»[86].
Рецензий в газетах и журналах появилось много, и в основном в поддержку нашего начинания.
А началось все так: после воронежской декады в Москве Массалитинов все чаще стал возвращаться к мысли о создании народной оперы-песни. Эта мысль зрела внутри Воронежского хора, ибо опыт с «Краем родным» увлек хор, убедив весь коллектив, что огромные творческие возможности его еще далеко не использованы. Об этом в хоре велись беседы, шли постоянные разговоры — словом, идея создать народную оперу-песню собирала все больше сторонников. В своих письмах того времени композитор постоянно возвращался к созданию оперы-песни, звал меня принять участие в этом. «Как о лучшем друге, я повел рассказ о тебе: вот приедет Иаким и всех научит на сцене играть правду песни, молодость вашу сохранит. Шароев друг ваш, кто трудится, и злюка для влюбленных в самого себя, а не в песню народную — искусство. Твой Ираклич».
Здесь Массалитинов неожиданно точно и ясно определил цель будущего спектакля — играть на сцене правду песни. К этому мы и стремились в дальнейшем — исполнительски точно донести через песню, через музыку правду человеческих отношений, их естественность и подлинность. Тем более, что эти качества вообще характерны для артистов из фольклорных коллективов, ибо без этих качеств к народной песне не прикоснешься — она требует естественности в исполнении и особого ощущения сценической правды.
Но время шло, а дальше общих идей и нарождающегося энтузиазма дело не шло.

Фильм «Совет да любовь». Рабочий момент. «Экран». 1971 год
И вот однажды летом сели мы с Иракличем в старый, потрепанный «газик» и поехали в глубинки земли воронежской. Ездили все лето — возвращались в Воронеж, снова уезжали в села, деревни, жили в колхозах, совхозах. Принимали нас везде как родных — в этой поездке я еще раз убедился, как любят на воронежской земле Массалитинова, какой он близкий, родной человек в любой избе, в любом доме, где мы случайно останавливались,— ехали без всякого плана, буквально куда глаза глядят. Тем летом мы проехали, прошагали весь край воронежский, многое видели, встречались с людьми — простыми сельскими тружениками, бывали на пашне, и в МТФ, и на лесных работах, а в Павловском районе, в верховьях Дона — в рыбачьих артелях. И постепенно стал вырисовываться сюжет будущего народного музыкального действа. Он должен быть неразрывен с природой воронежского края, чудесной земли воронежской, на которой живут люди земли, землепашцы, хлеборобы, украшающие землю трудом своим. Я записал в пути, в глубинке, вариант начала будущей оперы-песни. Все потом было по-другому, но ощущение, с которого все началось, осталось, оно во многом определило эмоциональный настрой нашего спектакля: «...В предрассветной дымке спит земля. Привольные дали не охватишь глазом — они без края и конца... Поля, луга, прозрачные березовые рощи, пронизанные первыми лучами солнца... Спокойные равнинные реки, в неторопливых чистых водах которых отражается синее-синее небо с легкими, плывущими на юг белыми облачками — равнинные реки, плавно несущие воды свои к недальнему морю... И одинокая песнь, летящая навстречу восходящему солнцу...
Россия...
Откуда-то издалека легкий порыв ветра принес задумчивый протяжный напев. Это еще не песня, а лишь предчувствие ее... И с первыми звуками напева просветлело небо, над землей занялась заря... Проснулись, ожили поля и дубравы, звонко запели птицы. А песня — привольная, чудесная народная песня — теперь она уже обрела ясные контуры. Песня звучит все сильнее, ширится, растет, разливается над необъятными просторами вольного края, где она родилась, звучит, встречая светлую зарю,— словно вся земля воронежская слилась в этой песне, приветствуя рождение нового дня... А на холме, под нежной березкой, одевшейся в золотисто-зеленый весенний наряд, в первых лучах солнца — группа девушек. Солнце все ярче заливает своим благословенным теплом землю. И вот в светлых звуках девичьей песни родился новый день — ясный день радости, веселья...»
В этой несколько идиллической картине есть одно важное условие — песня-героиня. У нас долго не выстраивалась драматургическая конструкция, пока мы не решили — главным компонентом спектакля станет песня. Так пришла идея начинать каждую из 6 частей спектакля хоровыми песенными эпиграфами. Это решение давало своеобразную форму всему действию, где подлинной героиней стала русская песня.
А сюжет (авторы — воронежские поэты Г. Воловик и М. Шишлянников, сценическая редакция И. Шароева) выстроился достаточно ординарный, однако достоинство его было в том, что он являлся связующим звеном в развитии песенного действа: обязательный для колхозной любовной истории треугольник с передовой дояркой Наташей, не менее передовым комбайнером Пашей и злодеем Федькой и добрым колхозным дедом — словом, какая-то очень немудрящая помесь «Свадьбы с приданым» с десятком других незамысловатых опусов. Но над всем этим — над сюжетом, не блещущим оригинальностью, зачастую средним текстом, неопытностью народных певцов, на плечи которых лег непривычный груз актерских задач,— над всем царила, звала, летела вдаль песня Массалитинова, вступившего в золотой век своего творчества.
Мне пришлось искать своеобразную сценическую форму песенного действия, где песня являлась кульминацией, той высшей эмоциональной точкой, к которой подводила логика действия. (В действенной ткани спектакля было много коротких разговорных сцен, подводящих к музыкальным номерам. В данном случае мы с Массалитиновым использовали традиционную русскую народную форму, для которой характерны свободные переходы от слова к песне, от песни к танцу; источником этого драматургического приема была издавна свойственная русскому фольклору тяга к импровизации, сказавшаяся в мгновенных жанровых переключениях.)
Новые задачи, вставшие перед коллективом, потребовали особой кропотливой работы с солистами хора. Работали мы с Марией Николаевной Мордасовой над ролью долго и подробно. Уже ей-то, все знающей до секунды своего пребывания в концерте с частушками, казалось, должно быть легко в комедийной роли заведующей молочнотоварной фермы. Но далось ей это с трудом. Правда, результат получился блистательный. И, когда мы репетировали игровые сцены, я был ее учителем, а она послушной и настойчивой ученицей. Но, когда дело дошло до частушек, тут наши роли поменялись. Ей не нравился текст, написанный специально для нее, и она его переделывала буквально до премьеры. Я считал, идя по традиционной театральной логике, что частушки выстраиваются по нарастанию, и каждая последующая должна быть смешнее предыдущей. А у Мордасовой было так: всего пять-шесть частушек, и первая, как правило, не смешная, она — запевная, экспозиционная, это, так сказать, обусловливаются правила игры — о чем поведем разговор. Вторая смешная, но не очень. Третья — по-настоящему смешная. Казалось бы, четвертая — еще смешнее, не так ли? Но Мордасова упорно четвертую, предпоследнюю, делала самой несмешной, зато финальная частушка была самой удачной. Вот против такого построения я восставал категорически, считая невозможным, что у частушек может быть своя драматургия. Мы долго спорили с Марией Николаевной, перепробовали массу различных вариантов. В результате оказалась права она, а не я. И то, что на предпоследнюю частушку зал не реагировал (а так и было ею задумано), сохраняло его смеховую реакцию для финала, что и происходило на каждом спектакле.
Только впоследствии я вспомнил научное объяснение И. П. Павлова этому удивительному явлению: опыты с длительно действующими раздражителями показали, что при постоянном и длительном подкреплении реакция на раздражительность значительно уменьшается. «Исчезновение условного рефлекса, несмотря на подкрепление, есть выражение... «тормозного состояния»[87]. Угасшую реакцию можно восстановить лишь после паузы. Но во время короткой паузы, по Павлову, необходимо изменить раздражители. Вот какую сложную задачу психологического характера приходилось, как оказалось, нам тогда с Мордасовой решать. Решила эту задачу сама Мордасова чисто интуитивно, и, судя по неизменной реакции зала, решила блистательно.
Впервые солисты народного хора играли роли, проходящие через весь спектакль. М. Мордасова, Ю. Золотарева, Е. Осипова, А. Паршин, М. Морозова и другие звезды Воронежского хора поначалу с большим трудом осваивали новое для них дело, но увлекшись, играли, пели, танцевали превосходно — правдиво, с каким-то особенно точным ощущением правды, которое я не встречал ни у драматических, ни тем более у оперных актеров. Играли искренне, увлеченно, темпераментно и — что тоже было немаловажно для народного действа — очень смешно.
Критики всегда требуют от нас работы по высшему счету. И в этом они правы. В этом их можно только поддержать. Спасибо им, что они нас держат все время в боевой форме, но хорошо бы, чтоб и личным примером они тоже агитировали нас всегда быть на высоте. Вспоминаю: долго мучился я, отбирая и монтируя кинокадры для постановки «Земля поет». Это очень трудное дело — кинокадры могут, если они органичны, помочь атмосфере спектакля, но могут и насмерть разрушить своей безусловностью и документальностью ткань музыкального спектакля. И вот читаю в рецензии (она не в газете, она в книге, что еще хуже — книги-то ведь остаются надолго: «Яркий, живой, непосредственный, народный по духу и искренний по эмоциональному тонусу, с красочными декорациями (художник применил светопроекции и кинокадры), он создавал праздничную атмосферу...»[88]. Вот те и на! Художник-то тут при чем? Это ведь дело режиссера, а это критику необходимо знать! А то ведь обидно. Ты работаешь, монтируешь по ночам кинопленку, проклиная все на свете, не знаешь покоя ни днем, ни ночью, и в результате — ты-то как раз и ни при чем, а честь и хвала художнику, а ведь он и киноматериал только на генеральной репетиции увидел!
«Земля поет» вобрала весь опыт предыдущих наших совместных работ с Массалитиновым по созданию народного музыкального действа. Я не хочу сейчас возвращаться к давнему спору — вправе ли мы были называть наш спектакль «современной народной оперой-песней» или же спокойнее для всех было определить его как «народные музыкально-драматические сцены». Сегодня мне кажется достаточно условным как первое, так и второе определение жанра, тем более что нигде нет научно обоснованного определения ни первого, ни второго. Может, и надо было для успокоения страстей назвать спектакль «сценами» — ничего в этом позорного не было, тем более что даже Чайковский назвал «Евгения Онегина» не оперой, а лирическими сценами — очевидно, предупреждая нападки ревнителей чистоты оперного жанра — они ведь и тогда уже были.
...На одном из спектаклей в Кремлевском театре был Хо Ши Мин с вьетнамской правительственной делегацией. Спектакль так заинтересовал его, что он пришел за кулисы. Хо Ши Мин был доволен и весел, шутил с исполнителями (он свободно говорил по-русски), сфотографировался с нами прямо на сцене, пожелал нам успехов. Мы потом долго вспоминали его непосредственность и простоту в общении. Спектакль шел с неизменным успехом (сохранившаяся запись подтверждает это) в Москве, Ленинграде, Воронеже, Горьком, Смоленске, Минске, Риге, Таллинне и многих других городах — словом, по всей стране — самим своим существованием опровергая оппонентов, предрекающих провал и полный конфуз.
Дальше так получилось, что мы с Иракличем ряд лет вместе не работали. В 1962 году он ушел из хора, сосредоточившись на композиторских делах. Он стал писать вещи неожиданные — сдержанные, мудрые, полные философских раздумий. Его хоровой цикл «Черемуха душистая» на стихи Есенина — удивительный по проникновенности и лирике, полный светлой мечты, радости и созерцательности, слитности с природой, которая так ярка у Есенина и которая была так близка самому Массалитинову.
«...Иаким!
Завтра еду в Репное с Галечкой. Тепло, ловлю по 2—3 штуки в день. Фантазия, думаю! Окунь берет, лещи. Красота. Это лето я долго живу в Репном. ...Всем поклон, я стал дедушкой, внук Костюха по фамилии Массалитинов. Обнимаю, твой Ираклич».
И вот, спустя 10 лет после того, как родилась «Земля поет», мы решили с Массалитиновым сделать художественный музыкальный фильм на ее основе. Фильм этот я снял в 1971 году в «Экране» и назвал «Совет да любовь».
Здесь все пришлось делать заново. От театрального варианта осталась только музыка Массалитинова. Сценарий фильма писал я с Виктором Орловым. Естественно, для фильма пришлось заново придумывать сюжет, вводить новые эпизоды, дописывать музыку. Я ввел в музыкальную ткань фильма и старинные народные песни. В съемках не было занято ни одного известного актера, в основном наши ребята — студенты ГИТИСа (в том числе и В. Гостюхин, ставший сейчас популярным киноактером, а это был его первый фильм), да народные воронежские ансамбли. Вся картина была отснята на натуре в Павловском районе, в верховьях Дона — местах, облюбованных мной задолго до съемок во время наших поездок с Иракличем по воронежской земле. Сюжет строился на противопоставлении двух свадеб: старинной, с ее традиционными обрядами — плачами матери и невесты, омовением ног жениху, шествием по улицам села, ряжеными, застольными песнями с традиционной дракой на свадьбе — и сегодняшней молодежной свадьбой наших героев, Наташи и Паши. Игровая стихия, характерная для русского фольклорного действа, была положена в основу как сценария, так и фильма. Это давало возможность выдержать весь фильм в едином стиле народного праздничного действа, связав все его многочисленные компоненты откровенно лубочным ходом — ведущими-скоморохами, да и всю незамысловатую сюжетную канву построить в условной манере, характерной для народных глумов, игрищ и забав.
В этом сказались и традиции народных массовых гуляний «под горами» (зимние) и «под качелями» (летние), и ярмарочные зрелища, идущие от древнего искусства российских скоморохов, — всевозможные затейники и потешники — деды-балагуры, раешники, «паясы», петрушечники и так далее, словом, в основу сценария взято народное русское представление, истоки которого в фольклоре, в вековых традициях народного творчества.
В сцене старинной свадьбы Массалитинов помог мне собрать на съемки в Павловск лучшие фольклорные коллективы из самых глубинок — и «Поющую хату», и «У самовара», и бубнистов братьев Помогайбиных, и ложечников, рожечников, и жалейщиков — членов Воронежского клуба любителей русской народной песни (было у него и такое начинание). Они-то, артисты из народа, и создали ту неповторимую атмосферу старинной свадьбы, которая сделала весь большой эпизод уникальным по своей этнографической и художественной ценности. Как самозабвенно пели за свадебным столом бабки — все эти «поющие хаты»! Казалось, века раздвигаются, и возвращается сама древняя Русь — столько силы, красоты, чистоты душевной было в этих напевах, то пронзительных, почти воплей, то задушевно-мягких, с какими-то переливами, словно колокольчики.
А драка за старинным свадебным столом! Дрались мужики, не вставая из-за стола, молча, как-то даже истово, с побелевшими от злости глазами. А рядом с ними отчаянно отплясывали девки. Вопили какую-то залихватскую пьяную песню бабки. Кричали малые дети... Конечно, все было тщательно отрепетировано, организовано, поставлено по кадру, поставлен свет, микрофоны. Но наши народные артисты отдавались игре до конца. И сколько дублей ни снимали, сколько бы ни повторяли сцену старинной свадьбы — каждый раз ее играли так, что остановить было невозможно.
Был на съемках случай показательный. Несколько дней репетировали старинную свадьбу. Все было режиссерски поставлено — и проход по улице, и торжественный вход молодых в дом, и благословление родителей, и как садятся за стол, и кто где — невеста слева или жених (по этому поводу между «домашними ансамблями» возник спор, потому что в разных деревнях по-разному сидят, точного канона здесь нет), и как начинают петь и плясать — словом, весь этот обширный эпизод (в смонтированном фильме он занял две части — это очень много, 20 минут — четверть фильма!). Я репетировал несколько дней и был доволен: эпизод очень складно выстраивался. Но однажды вечером, как раз накануне съемок, после последней репетиции на улице старинного села, которую выстроили мы на берегу Дона, подошла ко мне группа бабок и стариков и потребовала разговора. Лица у них были суровые, и мое сердце дрогнуло от предчувствия беды. «Ты, милок, сделал не то: нашу свадьбу (они так и сказали — «нашу») сделал по-городскому, а мы хотим по-правдашнему, по-деревенски. Не хочешь — как хочешь, сыматься не будем». И пришлось мне отменить на 3 дня съемки, и переставили мои бабки весь этот обширный массовый эпизод, поставив условия довольно-таки категорично: «Чтобы ты, милок, не лез, а то...»
В фильм старинная свадьба вошла в том виде, как ее поставили мои бабки из «поющих хат», и внесла удивительное ощущение подлинности, народности, какой-то неожиданной свежести. Я по сей день благодарен им за тот суровый разговор.
На съемках я часто ловил себя на том, что, верно, вот такой подлинный пласт народного гения, растворенного по дальним забытым богом и людьми деревням, посчастливилось открыть Пятницкому и что первый состав его хора состоял из таких одержимых творчеством людей от земли, от природы, знающих не только вкус хлеба, но и тот тяжелый многолетний труд, когда рождается этот хлеб,— людей, влюбленных в трудную свою землю, сердце отдавших ей, земле-матушке, несущих нелегкую долю достойно, честно и оттого — празднично. Отсюда и песни их звонкие, и глаза их озерные — голубые, глубокие, прозрачные — очи русских людей.

Сцена свадьбы из фильма «Совет да любовь». Первый справа — К. Массалитинов
А сегодняшняя свадьба! Она вся сверкала, искрилась — настолько была радостной, праздничной, светлой. Когда свадебный поезд подошел к Дону, жених с невестой пересели в ладью, украшенную яркими полевыми цветами, и поплыли они по живому коридору из множества нарядных лодок, в которых сидели подруги невесты и друзья жениха. А шествие по белой дороге! Нет, об этом надо обязательно рассказать. Выше Павловска, вверх по течению Дона, правый высокий берег Дона — белогорье: меловые горы, поросшие кустарником, являют собой причудливый вид (там, в белой горе, даже монастырь сохранился, выбитый в известняке — с глубокими ходами, церквами, кельями). Когда я увидел эти белые горы, сверкающие под солнцем,— ну прямо снежные вершины Кавказа, столько света, яркости, ослепления,— понял, что наконец-то найдена дорога, по которой поведут молодых! Эту дорогу, вернее, намек на нее, несколько дней мы сами расширяли, углубляли, потом несколько дней ждали солнца (дело было в октябре). И когда взошло солнце, на весь Дон загремела фонограмма «Величальной» Массалитинова, и по белой ослепительной дороге сверху, с горы, к Дону двинулось бесконечное шествие в народных костюмах: золотые, красные, зеленые, синие цвета заполнили этот белоснежный путь к счастью. Все мы, стоящие на противоположной горе у съемочных камер, ахнули: это было то, что мы всегда ищем в своих созданиях и поздно находим... В кадре все сверкало, искрилось, переливалось таким соцветием красок, что и не снилось никому. И в этом была величальная русскому народному творчеству, тем сотням и сотням безымянных творцов, что создали великое народное искусство. Дело прошлое — могу признаться: мне удалось всякими правдами и неправдами вырвать из запасников Воронежского краеведческого музея уйму костюмов, утвари, предметов крестьянского быта — боже, какое это было чудо, какое богатство фантазии гениальных народных умельцев!
Фильм упрекали в «излишней праздничности» и «приукрашенности»[89]. А каким же он должен был стать, если был решен как народное игровое действо, если с экрана звучала праздничная музыка, если все, вплоть до самого случайного участника массовки, были одеты в подлинные крестьянские костюмы воронежского края?.. Я думаю: одеть бы весь фильм в продукцию фабрики «Большевичка», нацепить бы всем героям зеленые галстуки и оранжевые кепки, чтобы отличить этих близнецов можно было только по имени-отчеству, дать в руки букеты искусственных роз (кажется, что их делают из крашеного мыла — по крайней мере, очень похоже), посадить бы их за стол, покрытый желто-синей клеенкой, поставить туда унылые чашки и тарелки-близнецы — наверное, вот тогда наши оппоненты (а их у фильма было достаточно) согласились бы, что фильм верно отражает сегодняшний день колхозной деревни. Вообще, этот «сегодняшний день» — значит «день сего дня» — будто перевод-подстрочник.
Я ввел в фильм самого Ираклича. Это не было предусмотрено сценарием. Да, в фильме он участвует в сцене свадьбы, изображая... самого себя! Не соглашался он долго:
— Да иди ты!.. Смеяться будут — скажут, влез в кино, артист!
— Да не волнуйтесь, мы им тоже многое можем сказать — больше, чем они нам!
— Это точно, Яким. Ну, давай говори, что делать надо.
Задачу я ему дал несложную — он поздравил за столом молодых и начал одну их своих песен, которую подхватывал весь народ. Сделал он это просто, естественно и очень точно. И закончил словами: «Совет вам да любовь!» Эти слова, неожиданно произнесенные Иракличем и попавшие в картину, стали ее названием.
Фильм был встречен хорошо зрителем. Появились и рецензии в центральной прессе, горячо поддержавшие картину, которая позже стала лауреатом IV Всесоюзного фестиваля телефильмов, была включена в официальную программу VII Международного музыкального конгресса.
Но это уже было позже, а сначала я получил строгий выговор от дирекции творческого объединения «Экран» за задержку сроков сдачи картины, и на меня наложили значительный денежный штраф. А вскоре картина была запрещена по требованию тогдашнего воронежского начальства по культуре, приславшего руководству Комитета по телевидению и радиовещанию грозное письмо о ее безыдейности, о пропаганде церковных обрядов и еще о чем-то, чреватом последствиями. Всю эту чушь я за давностью времени не помню. Массалитинов, узнав обо всем, немедленно примчался в Москву, бушевал, требовал возмездия, пошел в инстанции. Решение было в конце концов принято чрезвычайно простое, но тем не менее мудрое: еще раз посмотреть картину. Ее посмотрели, успокоились и реабилитировали. Но нервов это стоило немалых.
«Рад, что ты одержал победу над «друзьями», в чем я, в общем-то, не сомневался, но мути много, и ее побаивался — страшная она — у нее нет ни законов, ни чести...» — писал мне Ираклич, поздравляя с присуждением фильму приза на Всесоюзном фестивале.
А потом, после фильма, затеяли мы с Иракличем новое дело, на этот раз совершенно в ином плане. У нас в ГИТИСе, на кафедре эстрадного искусства, решил я ввести новый спецкурс — режиссуру народного музыкального действа. И обратился за помощью к Массалитинову. Он откликнулся письмом, которое хотелось бы здесь привести, ибо в нем Массалитинов высказал соображения о русском народном творчестве и его перспективах, соображения весьма поучительные: «Дорогой Иаким!
Живя в отпуске в Репном, я много продумал о твоем предложении поработать у тебя на кафедре с будущими режиссерами и актерами эстрады.
Министерство культуры своими решениями открывает в этом учебном году во всех русских музвузах кафедры народного хорового плана и двух музучилищах (в Гнесинском и Воронежском). Ты понимаешь, что стать грамотным хормейстером народного плана или педагогом, это далеко еще от тех задач, что должен знать и видеть художественный руководитель профессионального народного хора. Нужны, хотя бы с маленькой буквы, но будущие Шароевы, а без того первооткрытия «Края родного», «Земля поет», «Совет да любовь», «Северное сияние» и др. твоих капиталов народных действ, будущий выпускник-режиссер будет односторонен. Тебе надо быть первооткрывателем теперь в вузах. Ты один из первых понял, что народная песня имеет свое действо — жизнь, они создавались от случившегося события, переживая в народе, исторически, а не надуманно индивидуумом. Самая большая беда сейчас всех профессиональных народных хоров, да и театров, та, что они бессильны заглянуть в историю близкого даже времени («ночное», «посиделки», «за околицей», хороводные игры, как «Свадьба» в хоре им. М. Е. Пятницкого 11—27 годов н. века), ну, нашу с тобой работу в Воронежском хоре, а ведь будущее — народного плана оперы, театрализованные действа, которые будут все сильнее и сильнее врываться на сцену... Действо должно крепко зажить. Так все равно будет. Ты знаешь, как и я — в музвузах людей в хоровых факультетах не учили партитуре народного хора и давали весьма условные понятия, отвлеченные от практических дел, о народном творчестве. Давай поработаем вместе в институте Луначарского с твоими студентами.
Дадим навыки о народной песне, превратя в действо театрализованные картинки, сцены, фрагменты. Такая работа меня интересует, только бы с тобой, у тебя.
Почему на готовом материале (частично) «Край родной», «Земля поет», да и некоторые старинные песни не разыграть драматически, с действием? Разве «Летят утки» не действо, когда ты или твои питомцы создадут сценарий или либретто? Да мало ли чего можно нам с тобой сделать, обыграть, сценически оформить. Конечно, такая работа в вузе будет тоже работой первооткрывателей. Она потребует напряжения всех нас и студентов, но я загорелся твоим предложением. Конечно, меня привлекает и захватывает работа в институте потому, что ты там, без тебя на это я не пошел бы...
Звони, черкни пару слов. Может, надо бросить мечтать?
Обнимаю, домашним всем поклон. Ираклич».
И он принял самое деятельное участие в воспитании молодых режиссеров — приезжал в Москву, проводил занятия у нас на кафедре и воспринял всю эту работу как... общественную (!), отказавшись от оплаты, и даже обиделся на меня, когда я принес педагогический журнал и попросил его расписаться в часах занятий.
А потом как-то так случилось, что реже мы стали встречаться, новых совместных работ не предвиделось (к этому времени я ушел из «Экрана» и к фильмам не собирался возвращаться). Мне показалось, что и Массалитинов как-то поутих — в 1974 году он отметил свое 70-летие...
И вдруг — письмо. И опять — как прежде:
«Иаким!
Ты забыл меня, что ли? Этого я не понимаю и думать не желаю, не могу. Летом был на секретариате СК. Звонил тебе, но, наверное, на даче, телефон молчал...»
Этим тревожным письмом Константин Ираклиевич напоминал — пора браться за новые работы, время идет, а мы — простаиваем...
Письмо датировано 3 августа 1975 года.
Но больше не суждено было нам встретиться в общей работе. Он подарил мне книгу о нем, вышедшую в 1976 году, надписав: «Моему другу, помощнику в творческих делах, на добрую память — с благодарностью. Ираклич.»
Вскоре его не стало. А мне до сих пор кажется — вот как-нибудь ночью позвонит междугородка, и Ираклич скажет спеша: «Яким, спишь? Давай просыпайся!»
Глава V. Неконченные заметки
(из записных книжек)
О точном знании предмета
Всегда раздражала приблизительность и неточность знания изображаемого предмета у средних авторов, и поражала великая точность у классиков. Старая аксиома, гласящая, что предмет искусства есть предмет познания, а не объект изображения, подтверждается творчеством классиков, как мне кажется, еще с точки зрения всестороннего и подробного знания предмета. В этом (даже трудно найти определение) — профессиональная честность, что ли, а может — другое — потребность досконально знать предмет во всех его проявлениях, то расширительное значение предмета, без знания которого творчество невозможно. И если классики учат нас выявлять объективные закономерности того или иного предмета, исходить из них, то доскональное и глубокое знание его есть предпосылка для подлинного творчества, а оно всегда — активное приближение к истине. Очевидно, интуитивное стремление к познанию истины отличало великих поэтов, писателей, композиторов. У классиков это во всем — ив неустанном изучении глубин человеческого характера, и познание быта, исторических условий, природы и так далее.
Молодой Пушкин, создающий «Бориса Годунова», шел все время в глубь русской истории, изучая ее в самых различных аспектах, в том числе и старинный фольклор, своеобразную художественную летопись памяти народной. На ярмарке в Святогорском монастыре Пушкин проводил целые дни, терпеливо собирая драгоценные крупицы старинных народных песен — у лирников, слепцов, сказителей, поющих на паперти Святогорского монастыря. У него не было ни необходимого по сегодняшним нашим привычкам «Панасоника» или, на худой конец, хотя бы «Радуги», и он придумал оригинальный способ записи народных песен: незаметно, чтобы не спугнуть народных певцов, поэт, слушая их пенье, держа руки за спиной, записывал песни на восковой дощечке. Я очень вижу эту сцену — народ, собравшийся вокруг поющих, и он — странно одетый, в какой-то нелепой шляпе, в рубахе навыпуск (чтобы не признали барина), с лихорадочно горящими глазами, радующийся своим находкам, понимающий, что он соприкоснулся с подлинным, настоящим, вечным, записывающий только что услышанное (вверх ногами шли буквы — тоже надо было приноровиться — попробуйте сами!).
Он так увлекся своим поиском, что однажды был заподозрен в злоумыслии и арестован. Правда, не надолго.
Ему необходимо было знать первооснову, подлинник. Мне всегда казалось, что для классиков нет частностей, случайности, мелочей. Им важно знание предмета со всех сторон, по максимуму.
В самых различных формах проявляется это стремление у мастеров. Давайте вспоминать.
Достоевский, встретив на улице человека с лицом, поразившим его, забывал обо всем, все бросал и шел за этим человеком по улицам, стараясь распознать его сущность, понять по внешним признакам — походке, костюму — душу; кто он, какова его профессия, характер, семейная жизнь, счастлив ли он, о чем думает, что чувствует... Достоевский признается, что параллельно с этим процессом «дознания предмета» тут же сочинял историю человеческой жизни, основанную на своих впечатлениях от этого случайного и неизвестного человека.
В стремлении к подлинности и правде неукротим был гениальный Федотов. Он постоянно искал «своего» купца, стремился найти тот неповторимый, выражающий наиболее точно свою сущность облик, за которым неустанно гонялся по городу в надежде найти, наконец, натуру, которая мечталась ему.
А Репину необходим был бурлак Канин, без него он не мыслил своих «Бурлаков на Волге», и после долгих споров уговорил Канина позировать ему (уговаривал ведь, упрашивал, умолял даже!). Не было предела радости художника, когда Канин согласился.
Гоген в поисках своего мира бросил Париж, Францию, Европу, жизнь, сложившуюся десятилетиями, и уплыл на край света — ему необходимо было это добровольное изгнание, чтобы постичь предмет своего искусства, своей мечты. На это и сегодня не каждый из нас решится (может, потому, что чересчур практичным стал наш век). Как бы в вознаграждение за этот подвиг он обрел свое, неповторимое, то, что сделало его Гогеном для будущего. Солнечный поток затопил удивительные его творения, причудливые — как цветы тропиков — краски засверкали на несравненных его полотнах...
Примеров множество, когда в поисках приближения к истине творчества художник находит предмет, наиболее убедительно представляющий сущность его исканий.
Вот Гоголь. В холодном чуждом ему Петербурге он начал писать «Вечера...», и при всем веселье и радости бытия в них ощущается ностальгическая нота по дому — солнечной Украине, где все знакомо и дорого с детства. Ему потребовалось многое для создания подлинной атмосферы — и песни, характерные обороты речи, и тот неповторимый малороссийский быт, в котором своеобразие народа, и его жизненный уклад, и обряды, и верования — все, что определяет национальную самобытность. И он обратился к самому дорогому для него человеку — матери, доверив ей сокровенную просьбу-тайну: «Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты...
Еще несколько слов о колядах, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами»[90].
И почти через год — опять письмо к матери: «Я вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии, или что-либо подобное. Это составляет мой хлеб...
...Не пренебрегайте ничем, все имеет для меня цену»[91].
А вот — письмо сестре: «Ты помнишь, милая, ты так хорошо было начала собирать малор. (так у Гоголя.— И. Ш.) сказки и песни и, к сожалению, прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно...»[92].
Вчитайтесь внимательнее в эти требования, и вы уловите те драгоценные детали, которые потом в качестве «строительного материала» органично войдут в волшебную словесную ткань и «Майской ночи», и «Ночи перед рождеством», и в другие, звенящие радостью и молодостью повести пасичника Рудого Панька, напоенные неиссякаемым ароматом народной поэзии и подлинного народного быта.
«Это мне очень, очень нужно», «мне оно необходимо нужно», «это мой хлеб»
Ему было «необходимо нужно» знать документально точно все, все — и быт, и устное песенное творчество народа, и обряды, и костюмы «до последней ленты» — «с подробнейшими подробностями».
И в подтверждение этой неодолимой постоянной творческой потребности к документальной точности — им самим объясненное:
«У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных.
...Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем более вещей я принимал в соображенье, тем у меня вернее выходило созданье»[93].
Тут интереснейшее противопоставление — «вследствие соображения, а не воображения» — то есть основой творческого создания становился не выдуманный абстрагированный мир, а действительность «из данных, мне известных».
Как же надо было знать (во всех мельчайших деталях) и точно представлять себе обстановку дома Собакевича, чтобы любая деталь домашнего быта так играла на образ хозяина дома, как это сделано у Гоголя, чтобы и предметы в доме Собакевича заговорили: «И я тоже Собакевич!»
Гоголь собрал множество народных песен — в «Вечерах» ему необходимо было передать песенную атмосферу украинского села. И песня властно вошла во все его творчество — «Майская ночь» начинается песней, весенние песни неумолчно звенят по всей повести. Колядование в «Ночи перед рождеством», песня Параси в «Сорочинской ярмарке», песни в «Тарасе Бульбе»... Русская песня звучала в «Мертвых душах» и других его созданиях.
«Поэзией поэзии» назвал Гоголь звуковую стихию песни. Стремление Гоголя к изучению народной песни обусловлено не только желанием украсить повествование живым родником народного творчества, но и, очевидно, интуитивным стремлением «омузыкалить» прозу. Создатель прозы, ритмический и мелодический строй которой необычайно музыкален, Гоголь постоянно вводил в словесную ткань народные песни, ощущая органическое единство своей прозы и народного мелоса. Поэтому многолетнее изучение предмета — солнечного украинского фольклора — позволило ему собрать более 150 песен (число при тогдашнем отсутствии информации и специальных сборников феноменальное!).
...Мы мало обращаем внимания, как точен в своем творчестве М. Ю. Лермонтов — ив стихах, и в прозе. Я вспоминаю один день на Кавказе, за многие годы исхоженном и изъезженном мной вдоль и поперек, когда я открыл для себя с неожиданной стороны хрестоматийно знакомые с детства лермонтовские страницы.
Отправляясь на Кавказ, я всегда беру с собой томик Лермонтова — там, в горах, где родились эти строки, по-иному воспринимаешь знакомое с детства — и «Мцыри», и «Демона» и «Синие горы Кавказа...», и многое, многое другое...
Военно-Грузинская дорога изучена мною хорошо. Много странствовал я по ней — и пешком, и на машинах, неоднократно сам вел машину, замирая от страха на подъеме к Казбеги или у Млетского спуска; а в легендарных местах, упоминаемых Пушкиным и Лермонтовым — Балте, Ларсе, Казбеги,— снимал фильм.
И вот однажды... Мы стоим с моей женой Ириной на открытой всем ветрам площадке в одном из самых удивительных мест Военно-Грузинской дороги у осетинского селения Кумлисцихе, недалеко от Гудаури. Отсюда открываются дали сказочные: направо снежные вершины сверкают под ослепительными лучами солнца, влево уходит, петляя, дорога, устремляющаяся к самому опасному участку — Млетскому спуску. Вокруг, среди разнотравья альпийских лугов, пасеки. (Почему-то я ни разу, сколько ни проезжал здесь, не видел на пасеках людей — стоят улья, и — никого). А прямо перед тобой, внизу, в глубокой пропасти, открывается одно из чудес мира — Койшаурская долина. И, выхватывая из рук друг друга «Героя нашего времени», мы с Ириной читаем то место из «Бэлы», где путешественники поднимаются от «подошвы Койшаурской горы», видно, к тому месту, на котором мы сейчас стоим, и оказываются над Койшаурской долиной. Когда перечитываешь эти страницы дома, в Москве, то в который раз поражаешься блистательной звукописи и образности лермонтовской прозы; а здесь другое, здесь добавляется и еще одно драгоценное качество — подлинность, точность этой прозы, точность, да еще какая! Эти страницы из «Героя нашего времени» с топографической (да, да, не удивляйтесь, именно топографической!) точностью до малейших деталей воссоздают панораму Койшаурской долины, открывающуюся отсюда, сверху. В этом, конечно, сказались не только наблюдательность гениального поэта, но и верный, безошибочный глаз блистательного живописца и рисовальщика, каким был Лермонтов.
Мы увлеклись игрой и продолжали радостно узнавать знакомые по лермонтовскому роману детали: вот Гуд-гора, а вот и перевал — Крестовая гора с памятником (обратим внимание: здесь у Лермонтова иронический пассаж, в котором он высмеивает Гамба, французского консула в Тифлисе, давшего искаженное толкование названия Крестовой горы,— тот по ошибке в своих записях назвал Крестовую гору именем святого Кристофа. Лермонтов обратил на это внимание, уличив «ученого Гамбу», как его прозвал поэт, в неточности, в незнании предмета! Не будем преувеличивать эту деталь в великом романе, но не будем и преуменьшать значение этого факта).
Река Байдара, как и в лермонтовские времена, также буйно рвалась по ущелью к Тереку («чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь»,— говорил Максим Максимыч). Мы узнали и развалины осетинской сакли, где укрывались от непогоды автор с Максим Максимычем («Вот мы свернули налево, и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною. Оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею»). Лермонтов и здесь точен: между 73 и 74 километрами Военно-Грузинской дороги жил осетин Бидаров, состоящий на службе у государства. В обязанности Бидарова было принимать путешественников, за что он получал «пансион» от государственной казны. Известны даже размеры «пансиона» — 125 рублей серебром. В записках русских путешественников в 20—30-е годы XIX века Бидаров поминается неоднократно. Его именем названо ущелье, где стояли сакли семьи Бидаровых.
Факты, факты, факты...
Конкретные факты жизни, этнографии, природы, вошедшие в строгую систему поэтических образов романа. Мы ехали по Военно-Грузинской дороге, и нас сопровождали литые, строго ритмичные, как стихи, строки «Бэлы». Все совпадало, все было подтверждено тем, что мы видели вокруг, — это и сегодня можно увидеть на пути из Тбилиси в Осетию. Переплавленное художественной фантазией великого поэта, обретшее удивительную по ясности образность, все, виденное нами, было еще и очень точной топографией и подлинной историей, от которых отталкивался творец художественного образа.
Лермонтовская память и наблюдательность феноменальны. В. Белинский, бывший в Пятигорске в том же 1837 году, что и Лермонтов, поражался «непостижимой верности, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности»[94].
А когда в 1838 году М. Цейдлер в присутствии Лермонтова рассказал о своем приключении в Тамани, где он по странной случайности останавливался в том же доме, что и Лермонтов, попавший в историю, описанную им в «Тамани»,— поэт, как пишет Цейдлер, «пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь»[95].
В первой своей кавказской ссылке Лермонтов много рисовал с натуры — различные сцены из военной жизни, пейзажи, мгновенные зарисовки людей, которых встретил он в своих бесконечных странствиях по Кавказу. «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал»,— писал поэт С. А. Раевскому в ноябре 1837 года[96]. И если бы не хронология, установившая точные даты появления картин и рисунков, можно было предположить, что изобразительное творчество поэта кавказского периода, как метко отметил И. Андроников,— иллюстрации к его кавказским поэмам, стихам, роману,— настолько они едины своим настроением и общностью впечатлений. Но даты создания картин и рисунков говорят о совершенно противоположном ходе рождения великих поэтических произведений Лермонтова. Все было как раз наоборот. Его кавказские картины, рисунки, карандашные наброски явились как бы своеобразным «подготовительным периодом» к созданию поэтических произведений, пластически выраженными эскизами будущих стихов и поэм. В 1837 году, за 2 года до того срока, когда поэт поселил своего Мцыри в монастыре под Мцхета, он побывал в древней столице Грузии и очень точно зарисовал и Свети-Цховели — древний собор, и Джварис (храм Креста), и развалины монастыря. Если помните лермонтовскую картину «Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты» — там все это есть. Картина эта ожила потом в «Мцыри» почти дословно:
...Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод...
И задолго до того, как Лермонтов с Максимом Максимычем в «Бэле» отправился из Тифлиса во Владыкавказ (так в лермонтовские времена называлась теперешняя столица Северной Осетии) по Военно-Грузинской дороге, поэт сам прошел, проехал, проскакал («Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом»,— сообщал поэт в письме[97]) весь путь от Тифлиса до Владыкавказа. И запечатлел весь этот путь в целой серии рисунков и набросков, частично переведенных им потом в картины, писанные маслом. Я напоминаю эти рисунки 1837 года и картины 1837—1838 годов, расположив их в той последовательности, как запечатленные в них «примечательные места» выстраиваются по Военно-Грузинской дороге из Тифлиса в сторону Осетии («Я ехал на перекладных из Тифлиса...»[98]): «Тифлис», «Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты»; «Развалины на берегу Арагвы в Грузии»; «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби» (это внизу, на спуске к Казбеги); и далее, за Казбеги, «Дарьяльское ущелье с замком царицы Тамары» (это уже Осетия, отсюда, от замка Тамары, до Владикавказа километров 30).
И затем — целая серия рисунков и картин, своего рода предварительных эскизов к «Княжне Мери». Виды Пятигорска и Эльбруса вызывают в памяти первое пятигорское утро Печорина, а рисунок «Вид Бештау близ Железноводска», изображающий улицу в немецкой колонии Шотландке (она еще называлась Каррас), где неоднократно бывал Лермонтов в детские годы и затем в 1837 году, напоминает нам место, куда поэт впоследствии отправил на пикник «водяное общество». Пейзаж, написанный Лермонтовым в «Кавказском виде» («Сцена из кавказской жизни»), и прячущиеся за кустами всадники ассоциируются с эпизодом встречи Печорина с княжной Мери и Грушницким по дороге в Шотландку: «Дорога идет извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав... Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии балками, я остановился, чтоб напоить лошадь...»
Образы литературные, образы словесного обозначения жили в душе Лермонтова в единении с образами изобразительными, живописными, образами пластическими, взаимно дополняя друг друга, вызывая в памяти детали и штрихи удивительные, дающие объемные, осязаемые картины жизни, быта, природы. Лермонтовская наблюдательность сказывалась не только в зримых образах; в своих творениях он чрезвычайно точно ощущал и время действия. В «Максиме Максимыче» действие было рассчитано вплоть до часов. Он определил скорость своего путешествия лаконично — одной фразой: «...Я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ». Следовательно, целый день он ехал по этой дороге от селения Казбеги, до теперешнего Орджоникидзе — там что-то немногим более 40 километров, — по которой мы промчались за полтора часа...
В Казбеги нам повезло; погода была солнечная, Казбек весь открыт от подножья до вершины, и мы были поражены видом монастыря на Казбеке, вознесенного к вечным снегам монастыря «Цминда Самеба» (Святая троица), который благодаря Пушкину мы воспринимаем уже как легенду, как поэтический вымысел. Тучи шли низко по ущелью, и монастырь, оказавшись над тучами, был отчетливо виден на закатном небе: он словно уплывал ввысь, к вечным льдам легендарного Казбека. И вспомнилось пушкинское:
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами...
И странно и чудно было, что монастырь, увиденный Пушкиным, и сегодня «парит» над горами, отчетливо видный от дома Александра Казбеги.
И вместе с тем радостно убедиться, что в основе поэтического несравненного этого стихотворения мечты о полете, о том, чтобы «подняться к вольной вышине», та же точность увиденного в действительности.
Вспоминается замечание Пушкина, сделанное им в примечании к «Евгению Онегину»: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю»[99]. Конечно, не надо придавать авторскому замечанию буквального значения, но вместе с тем не стоит и игнорировать его. Пушкин настолько точно представлял биографии героев своего романа, что даты их жизни исследователи вычисляли довольно скрупулезно: Онегин родился в 1795 году, Ленский — в 1803, погиб в 18-летнем возрасте.
Действие каждой главы «Евгения Онегина» обозначено точными временами года, а пятой — даже числами, начиная с ночи с 2 на 3 января и до 12 января 1821 года, именин Татьяны. И даже сон Татьяны имеет свою дату, он был увиден героиней романа в ночь с 5 на 6 января. И дата дуэли и гибели Ленского обозначена исследователями — 14 января. А 3 июля 1821 года Онегин отправился из Петербурга в путешествие:
...Июля 3 числа
Коляска венская в дорогу
Его по почте — понесла...
Точность, знание предмета для классиков норма, даже необходимость. Как скрупулезно готовился к «Хаджи-Мурату» Лев Толстой! Он знал Кавказ, любил его, служил там на территории нынешней Осетии, жил среди героев своих будущих «Казаков», изучал жизнь горцев. Казалось бы, «материала» в этой «творческой командировке» было собрано достаточно. И вместе с тем когда Толстой приступил к созданию одного из последних вариантов «Хаджи-Мурата», глубоко неудовлетворенный тем, что было им написано, он обратился к семье Коргановых, в доме которых жил в Нухе Хаджи-Мурат, с просьбой описать подробности его жизни (дело было в 1902 году, а Хаджи-Мурат жил в Нухе перед побегом в горы 50 лет назад):
«...Я люблю быть до малейших подробностей верным действительности (разрядка моя.— И. Ш.). На всякий случай выпишу несколько вопросов...
1) Жил ли Хаджи-Мурат в отдельном доме или в доме вашего
отца? Устройство дома.
2) Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды обыкновенных
горцев?
3) В тот день, как он бежал, выехал ли он и его нукеры с винтовка ми за плечами или без них?
...Чем больше сообщите мне подробностей, как бы незначительны они ни казались вам, тем более буду благодарен»[100].
(Вспомните аналогичную — почти дословную — фразу Гоголя!) И опять в 1903 году: «...Говорил ли он хоть немного по-русски?
2) Чьи были лошади, на которых он хотел бежать?.. И хорошие ли
это были лошади и какой масти?
3) Заметно ли он хромал?
4) Дом, в котором жили вы наверху, имел ли при себе сад?
5) Был ли он строг в исполнении магометанских обрядов?..»[101]
И при работе над «Воскресеньем», создавая третью редакцию рома на, Л. Толстой записывает ряд вопросов, которые ему необходимо выяснить:
«6) Выход в Сенат. Где дожидаются. Где приходят сенаторы. Их мундир? Обер-прокурор, секретарь где сидят? [...]
11) Выход партии из острога.
12) Какие телеги везут?
13) Сколько в партии выходит? 300, 800.
14) В каком порядке идут?..
15) Какие рубахи у женщин?»[102]. А в письме своей родственнице, А. А. Толстой, писатель утверждал (речь шла о решении образа Николая I в «Хаджи-Мурате», которое не удовлетворяло Л. Толстого): «Надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его характеру»[103]. «Овладеть ключом к характеру» — насколько точно определена авторская задача! Как это все кажется само собой разумеющимся, и как часто мы сталкиваемся с произведениями, где «ключом к характеру» автор не владеет! А казалось бы — прописные истины...

И. Шароев, Л. Михайлов.
ГИТИС им. А. В. Луначарского. 1951 год

На репетиции в Московском академическом музыкальном театре

После концерта на сцене Кремлевского Дворца съездов.
Слева направо: П. Нечипоренко, А. Райкин, Т. Устинова, И. Шароев

С Аркадием Райкиным

Читая Маяковского.

Дома у Л. О. Утесова
И в современной литературе тоже можно найти примеры, свидетельствующие о том, что линия точного знания предмета, идущая от великих классиков, не потеряна, она продолжается.
В который раз перечитываешь «Мастера и Маргариту» и поражаешься — как точно все написано! Не только в создании характеров и образов проявляется удивительная булгаковская точность, но и рядом с поистине безграничной, феноменальной фантазией — топографическая точность мест действия. Те, кто хорошо знают Москву, с радостью, будто близких знакомых, встречают места действия, выписанные так тщательно и узнаваемо, что они становятся как бы действующими лицами повествования,— и Патриаршие пруды, со знаменитым турникетом, и «Грибоедов», и бывший Ермолаевский переулок, по которому раньше бегал трамвай, и дом № 302-бис на Садовой, рядом с бывшим садом «Аквариум», где находилось Варьете — то самое, в котором Воланд со своей свитой дал сеанс черной магии. Все это настолько точно, настолько правда, что и по сей день влечет людей на места действия романа. Гуляя в саду на Патриарших прудах, я не раз встречал группы студентов, яростно спорящих, где был знаменитый турникет, у которого поскользнулся Берлиоз и откуда вывернул трамвай, несущий неожиданную и неотвратимую беду...

С Дином Ридом
А бывший дом № 302-бис на Садовой, находящийся в трех минутах ходьбы от Патриарших, на последнем этаже которого обосновалась шайка Воланда, и сегодня — место паломничества многих и многих. Стены в парадном исписаны цитатами из Булгакова, с рисунками персонажей, и на дверях на площадке предпоследнего этажа — надписи, сообщающие, что здесь живет Аннушка, пролившая подсолнечное масло у злополучного турникета. Но больше всего надписей и рисунков на стенах последнего этажа — там, где жил Воланд со свитой. Я был однажды в парадном бывшего дома № 302-бис, встретил там группу студентов, и они открыли мне тайну этого дома и парадного; оказывается, воландская квартира, до сих пор привлекающая внимание читателей романа, и есть квартира, где одно время жил сам Михаил Булгаков. Он поселил и Берлиоза, и Степу Лиходеева, а затем и Воланда с Коровьевым, Бегемотом, Азазелло, и Геллой... в собственной квартире. Такого еще в русской литературе не было. Наверное, Булгакова грело, что его герои жили в его квартире, где ему был знаком каждый сантиметр. Булгаковская квартира под пером ее хозяина тоже стала одним из главных действующих лиц романа...
Думаю, все эти примеры подтверждают, что точность места и времени действия у классиков изумительны. Равно как и детали, определяющие и характер изображаемого человека, и эпоху, то, что Пушкин называл «предполагаемыми обстоятельствами». Может, это условие необходимо им, чтобы четко обозначить берега, по которым бурным потоком льется фантазия...
Много подобных примеров можно привести не только из литературы, но и из практики выдающихся музыкантов. И они относятся как к творчеству композиторов, так и к исполнителям. Мне вспоминается проникновенное высказывание С. Рахманинова: «Великие пианисты Рубинштейн и Лист обладали необычайно широким диапазоном знаний. Они изучали фортепианную литературу во всех возможных ее ответвлениях... Вот в чем заключается причина их гигантского музыкального взлета. Их величие заключалось не в пустой скорлупе приобретенной техники. Они знали»[104].
Рахманинов очень точно определил доминанту творчества великих музыкантов — они знали,— выдвинув на первое место не «вдохновение», «озарение», «интуицию гения», то, что в обывательском представлении всегда связано с творчеством выдающихся художников,— а ясное, исчерпывающее понятие — знание предмета творчества, предмета искусства.
О полете
Народная фантазия с древних веков была устремлена в поднебесное пространство.
В древних сказаниях, мифах, легендах мы встречаем художественное отображение этого стремления.
Там, в ликовании солнечных далей, воображением народных поэтов создавался идеальный мир — такой же прекрасный, как прозрачное небо, празднично украшенное светом солнца, или же как ночной небесный бархат, усыпанный мириадами сверкающих галактик. В этом поэтическом мире не было места злым силам, а торжествовали добро и справедливость.
Образ вознесения в космос веками создавался в самых различных проявлениях духа народного — поэзии, науке, музыке, архитектуре, живописи (слово «космос» изобретено Пифагором и заключает в себе одновременно несколько понятий: вселенную, гармонию и красоту).
Многие мифы разных народов, дошедшие до нас, возносили героев в небеса, к солнцу. Икар, которого знают все со школьной скамьи,— это один из тысяч героев, устремившихся к солнцу. Тема вознесения нашла значительное выражение в религиозной мифологии, как в христианской, так и мусульманской, и в других религиях. А древнегреческая мифология поселила всех своих богов-героев наверху, на Олимпе, ближе к солнцу. И у греков боги-герои возносились в небеса, и в громе и грохоте, при сверкании молний, совершали прогулки по небу. (То ли это воображение фольклорных авторов, то ли затерянные в веках следы обитателей иных галактик, пришедших когда-то на Землю и покинувших ее?) Во всяком случае, народная фантазия всегда населяла мир героями, одаренными счастливой возможностью покорять небо.
А древняя архитектура? Что характерно для нее?
Стремление ввысь. В конусообразных громадах пирамид, в архитектонике древних храмов угадывается все та же эмоция полета. Равно как и восточная архитектура, нашедшая удивительно изящное воплощение в легких линиях минаретов, странно совпавших через многие века с точным, стремительным силуэтом современных космических ракет.
И в сложнейших ажурных каменных переплетениях готических строений угадывается страстное желание избавиться от земной вещественности, материальности, приковывающей к земле.
Новое время нашло образное воплощение своих надежд в этом звездном стремлении.
Что зовет альпиниста восходить на недоступные вершины, рискуя сорваться в пропасть, замерзнуть на вечных льдах? Чем влечет его этот великий и, в общем-то, безвестный труд? Слава? Жизненные, блага? Ничего подобного не ждет его. И никакой личной корысти в этом нет. Есть только одно — упорное желание достичь вершины, встать над облаками, вдохнуть полной грудью трудный воздух больших вершин и понять: ты поднялся ввысь, к небесным просторам...
Высочайшие горные вершины, недоступные человеку, словно застывшие в первозданной своей недостижимости, орлиное парение над пропастями, сверкание под солнечными лучами вечных льдов, бешенство горных потоков, облака, плывущие далеко внизу по ущелью, и какое-то особое, только на горных вершинах рождающееся ощущение свободного парения — все это дремлющее в нас чувство полета, его поэтической сущности.
И глубоко закономерно, что поэтов всегда, во все времена звали горы. Ломоносов, Державин, Пушкин, Жуковский, Грибоедов, Рылеев... Они отдали в своем творчестве дань прекрасному и в их времена еще таинственному Кавказу. Кавказ вошел в их поэзию властно и сильно — как олицетворение высокой поэтической мечты.
Кавказские горы стали второй поэтической родиной Лермонтова, полюбившего их с детства и на всю жизнь. «Кавказ был колыбелью его поэзии»,— писал Белинский[105].
И в самом деле — какое удивительное парение в нескольких строчках гениального стихотворения в прозе: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе...»
Когда стоишь на горной вершине — далеко внизу облака клубятся в пропастях, а вокруг — сказочное сверкание могучих снежных вершин. И смотришь, изумленный, на близкое-близкое небо, и кажется — только взмахнуть руками, и полетишь над ледниками, над глубокими ущельями, оставляя далеко внизу прозрачные белые облачка. И в который раз — восторженно повторяешь вещие слова: «Вы к небу меня приучили...»
Вспомните свои ощущения в горах. Вы идете по глубокому ущелью — пусть самому необычайному, живописному, даже сказочному, такому, как Чегемское. И, несмотря на все красоты, окружающие вас, постоянно присутствует странное чувство тяжести — будто вы испытываете давление каменных глыб, громоздящихся со всех сторон. Вы поднимаете голову и смотрите в далекое-далекое небо, сверкающее над великанами-утесами, видите орлов, застывших в синем мареве...
И — совершенно противоположное чувство, когда вы — на вершине. Оно близко к пушкинскому:
...один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной...
Поэты — люди полета, и мы должны учиться у них этому драгоценному дару обретения крыльев, могущих поднять ввысь, в открытое полету небо.
*
Если ставить поэму о космосе не в кино, а на сцене, то мне видится легкая конструкция из алюминия и стекла, своей стремительной формой вызывающая ассоциацию со звездолетами будущего: кажется, вот-вот взовьется она и умчится к дальним мирам...
На такой площадке видится мне звездная поэма. Никакого быта. Никаких подробностей. Ничего, что может помешать общему настроению торжества.
Музыка. Слово. Только музыка и слово — вот строительный материал, из которого родится поэма о мечте. Все остальное должно быть подчиненным. Обобщенный образ — образ, выросший до символа,— может передать смысл и правду грядущего. Может, в этом и будет искусство космических веков. Мы не знаем, да и не можем знать, какие корабли уплывут в другие галактики; как будут одеты космонавты, какая техническая сила поможет звездолетам покрывать неправдоподобно огромные расстояния. Все это на сегодня лишь предположения. И это не очень важно. Мы сегодня восторгаемся глубокой символикой Прометея, но нам все равно, из какого материала были сделаны цепи, приковавшие бога-борца к скале. Мы славим мятежный дух титана. И — заметьте — к сердцу Прометея не раз возвращались многие и многие художники всех эпох — именно к сердцу, а не к «техническому воплощению» его фантастического подвига.
Важно другое. Мы знаем и знаем совершенно точно, какие люди будут вести корабли, каким «горючим» будут заправлены их сердца. Мы знаем — эти люди будут называть друг друга братьями; жажда мирового познания будет сжигать их души. Они будут счастливы жертвовать, отдавать ради Нового все — даже жизнь. И никогда еще люди не мечтали так, как они смогут мечтать в будущем. Вечный человеческий дар — мечта — достигнет у них небывалой силы. Это будут одержимые мечтой люди.
В том грядущем мире не будет преступников: им просто не из-за чего будет совершать преступления. Единственное преступление, которое может сохраниться в грядущем и которое будет караться жестоко, вплоть до изгнания с Земли,— это отсутствие дара мечтать. Таким землянам пощады не будет. Их будет преследовать мировое презрение. А мечтатели будут прославляться в веках.
Детство
Как я уже говорил, музыкой я стал заниматься с 4-х лет. Мне сначала не повезло: я вышел в вундеркинды. В 5 лет я уже выступал на концертах в Баку, одетый в малиновый костюмчик с большим бантом. Играл я на скрипке, одной восьмушке, бетховенского «Сурка». Имел успех: очевидно, в зале считали, что мне года 2—3, я был очень маленького роста. Аккомпанировал мне мой брат Антон, который тогда еще ходил в пианистах (впоследствии он стал скрипачом и дирижером). Появление на эстраде двух братьев — «юных дарований» — увеличивало, естественно, ажиотаж у слушателей.
Однажды летом, в дикую бакинскую жару, уходя с эстрады и кланяясь (дома меня научили, как это делать), я, сгорая от жажды, облизал языком губы. Залу ужасно понравилось: решили, что я показал язык. Зал грохнул хохотом и зааплодировал громче и живее. Я запомнил и, уходя после выступлений, стал показывать язык залу. Зрителями, очевидно, это воспринималось как самовыявление «юного дарования». Когда язык не показывал, успех был значительно скромнее. Никто тогда не обратил внимания на опасную деталь, но в ней таился будущий творческий крах «дарования».
К 6-ти годам из костюмчика я вырос, другого достать родители не смогли (шли 30-е годы, жизнь в стране была трудная), трюк с языком всем поднадоел, и я перестал услаждать слух бакинцев бетховенским «Сурком» (с тех пор я вздрагиваю каждый раз, когда слышу по радио «Сурка»,— ничего не могу с собой поделать: стыдно перед великим классиком).
Музыкой я продолжал заниматься в ЦМШ при Бакинской консерватории. Но главные «музыкальные университеты» прошел я дома.
Георгий Георгиевич Шароев, мой отец, был воспитанником Петроградской консерватории, учеником А. Глазунова и А. Есиповой. Так сложилась судьба, что в 1919 году он оказался в Баку и начал преподавать фортепиано в музучилище (консерватории тогда еще не было).
В 1921 году вместе с выдающимся деятелем азербайджанской музыки Уз. Гаджибековым он являлся одним из организаторов Азербайджанской государственной консерватории.
С Узеиром Гаджибековым отец дружил, и наша семья часто вечерами бывала в доме у Гаджибековых. Они жили тогда в переулке недалеко от Шемахинской улицы, в одноэтажном каменном доме. Деревьев во дворе не было — на залитом асфальтовом дворе стояли большие кадки с цветами. Большая стеклянная веранда выходила во двор.
Когда мы приходили к Гаджибековым, то весь вечер всегда распределялся по одному и тому же порядку. Сначала пили чай в столовой с невероятно вкусными азербайджанскими сладостями, которые неподражаемо готовила супруга Гаджибекова, Меликя-ханум. Потом отец удалялся с Гаджибековым в кабинет, где они просиживали часами. Их связывала многолетняя дружба, они вместе боролись за создание Азербайджанской государственной консерватории, за утверждение профессионального музыкального образования в Азербайджане.
В середине 30-х годов консерватория набрала силу, по инициативе Уз. Гаджибекова стала развиваться отрасль народной азербайджанской музыки и подготовка ее специалистов в консерватории. Вместе с моим отцом Гаджибеков создавал учебные планы, учебные пособия, другие научно-методические и научные материалы, сыгравшие большую роль в развитии музыкального образования в Азербайджане. Когда Узеир-бек с Георгием Георгиевичем удалялись в кабинет, туда никто не смел заглянуть и помешать им. Мама, Валентина Николаевна, оставалась в доме с Меликя-ханум, обсуждая свои — домашние — дела, а мы с братом, предоставленные сами себе, переворачивали дом вверх дном, заставляя маму краснеть за нас. Когда эта наша бурная деятельность в доме надоедала Меликя-ханум, она выпроваживала нас во двор, взяв с нас обязательство, что в футбол мы играть не будем, так как это представляло опасность для роскошной застекленной террасы. Но именно в футбол мы и играли во дворе. Мне было лет 5—6, брату 6 или 7, и управу на нас найти было невозможно. Мы старались играть так, чтобы мяч не попадал в сторону террасы. И все сходило с рук. Но вот однажды... Мяч, пущенный мной со всей страстью, описал в воздухе дугу и к полному нашему ужасу влетел в окна террасы. Да не просто влетел, а как-то отскочил, наткнулся на стену дома и шарахнулся еще раз в окна. Раздался оглушительный звон разбитых стекол, посыпались осколки, и на террасу выбежали напуганные Меликя-ханум и наша мама. А затем пришел отец и сам Гаджибеков. Что тут началось! Отец бушевал, грозя немыслимыми карами, мама обещала нас строго наказать, мы ревели от страха и стыда... Скандал неожиданно прекратил Гаджибеков. Подергивая усики (была у него такая привычка), он спокойно и как-то по-доброму сказал: «Не надо волноваться, Валя-ханум. Дети, да!..» И улыбнулся. Инцидент мгновенно прекратился. Все облегченно вздохнули, мы с братом умолкли. Когда мы вернулись домой, то о футбольном происшествии никто больше не вспоминал. Гаджибеков спас нас от неминуемого, казалось, наказания. Вот 50 лет прошло, и столько за эти полвека было в моей жизни разного — большого и малого,— и столько угроз и жестких намеков наслушался я за эти долгие годы. Многое из того, что было, забылось. А добрую улыбку Гаджибекова и его фразу: «Дети, да!..» запомнил на всю жизнь.
*
Отец обычно занимался со своими учениками дома. Для нас с братом Антоном было любимым развлечением забраться под рояль, сидеть там тайком, спрятавшись за баулами и большими коробками, и изредка дергать за ноги играющих на рояле студентов и студенток. Поднимался крик, скандал, но мы с братом успевали в секунду исчезнуть, и, пока отец нас искал под роялем, с невинным видом появлялись из соседней комнаты или коридора.
До сих пор, встречая отцовских учеников, невольно краснеешь, когда они, смеясь, вспоминают, как мы с Антоном хватали их за ноги во время уроков музыки.
Среди консерваторских учеников отца выделялся совсем еще молодой Карик, как все его называли. С ним отец всегда занимался особенно внимательно, считая его чрезвычайно одаренным, и предсказывал ему прекрасное будущее как музыканту. Прогнозы отца полностью оправдались, и Кара Караев, став выдающимся советским композитором, всегда с любовью и благодарностью вспоминал Георгия Георгиевича. Вместе с К. Караевым на одном курсе в консерватории училась и моя мать. К. Караев часто бывал у нас дома, и дружба с ним сохранилась на многие годы, вплоть до конца его жизни.
*
В Петроградской консерватории отец учился в одно время с С. С. Прокофьевым, в далекие студенческие годы они общались. После консерватории не виделись многие десятки лет. Во время войны С. С. Прокофьев приезжал с авторскими концертами в Баку. Было это в 1942 или 1943 году. Отец повел Антона и меня на концерт, и после концерта мы пришли за кулисы к Прокофьеву. Помню, как встретились они, не видевшиеся со студенческих лет, как, обнявшись, долго стояли, не спуская глаз друг с друга, и не было радости на их лицах. Печальные, тихие, молчаливые, смотрели, словно изучая один другого, пытаясь найти в постаревших лицах что-то от стремительных студентов, от их улетевшей молодости... Я, 12-летний мальчишка, в изумлении глядел на встречу однокашников. В последние дни дома только и было разговоров — приезжает Прокофьев, надо обязательно встретиться, поговорить, вспомнить молодые годы. И мне казалось, что предстоит радостная, шумная встреча, а тут — чуть не слезы на глазах. Такое я видел впервые в маленькой своей жизни. А теперь такие встречи бывают у меня каждый раз, когда я возвращаюсь в город своего детства, и уже привык к тому, что нерадостные они, эти встречи с собственной молодостью...
Баку — город солнца, моря, пронзительных ветров. В него приезжаю всегда с волнением — это возвращение в детство. Там все близко, знакомо, осязаемо, как во сне, когда видишь сны о собственном детстве.
Многое и изменилось в родном городе. Люди, отношения, облик города. Даже — погода. Помню, года 3 назад смотрел по телевидению хронику — снежные заносы в Баку — и был поражен этим. Можете не верить, но снег я впервые в жизни увидел в 1944 году, когда наша семья переехала в Москву. До этого снег я видел только в кино. В те годы Баку снега не знал, и Новый год — это я помню очень хорошо — мы встречали в пиджаках и легких рубашках. А отец купался в море до конца ноября — это было традицией, и когда он первого декабря совершал свой последний в сезоне заплыв, то на пристани, где стояла знаменитая бакинская купальня, собиралось полконсерватории.
С этой купальней у меня связаны мрачные воспоминания. Когда над городом дул норд — так назывался ветер с севера, море становилось чистым, и купание в теплом море было наслаждением. Но когда дула моряна — ветер с моря, то бухту затягивало густой пленкой жирной нефти в несколько сантиметров, и купание становилось невозможным. Тогда взрослые дяди шли по купальне, выбирая «бочку». Так называлась очередная жертва, выбираемая взрослыми купальщиками из мальчишек. «Бочку» поднимали на крышу купальни, раскачивали и швыряли в море. Так в сплошной нефтяной пленке появлялось «окно» в несколько метров, куда немедленно бросались взрослые. Несколько раз «бочкой» бывал я, и дома мама долго отмывала меня керосином, потому что жирную нефть никакое мыло не брало.
Баку вообще удивительный город. Горький, увидев ночную бакинскую бухту, границы которой обозначены яркими огоньками, сказал, что все это напомнило ему Неаполь.
И Маяковский говорил о городе с уважением.
А Есенин просто считал Баку своим другом, близким и понятным, и воспевал его:
...И чувствую сильней простое слово: друг.
Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.
(Балаханы — селение недалеко от Баку, где бывал Есенин). Он любил еще Мардакяны, дачное место под Баку, там Есенин жил на даче у Чагина и написал свои несравненные «Персидские мотивы». В Персии же Есенин никогда не был... «Персидские мотивы» — это Баку и Мардакяны.
...Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям...
...Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи...
...Ветер благоуханный
Пью я сухими устами...—
это все Мардакяны. Те, кто бывал там, пожил хотя бы несколько дней среди бескрайних виноградников, неторопливо спускающихся к Каспию, окаймленному многокилометровым ожерельем золотых песков, тот узнает это томяще-знойное ощущение южного лета, так выразительно, так победно сияющего ослепительным солнцем в «Персидских мотивах...
...Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя —
это вечер на приморском бульваре в Баку, где от густых зарослей олеандра плывет приторно-пряный аромат, где в тихих волнах залива купается золотая луна и теплые волны ветра приносят запахи морских просторов «голубой и ласковой страны»...
Есть какая-то тайна в этом древнем городе, полном солнца и моря. Мне кажется, она вливается в душу с детства, давая ей силу на всю жизнь,— силу жизнерадостную, веселую, добрую.
Баку, родной мой город!.. Он так навсегда и остался для меня солнечным городом детства...
Во время путешествий...
Дорога... Дорога — всегда ожидание, всегда волнение. Образ дороги неразрывно связан с классикой — ведь многие герои, пришедшие в нашу жизнь из книг и ставшие для нас близкими, понятными, совершают свои деяния в пути.
Давайте вспомним:
Дон Кихот отправляется в дальнюю дорогу, чтобы там, на неведомых путях и жизненных перекрестках совершать подвиги во имя добра и справедливости...
Тиль Уленшпигель всегда в пути — он идет по дорогам Фландрии, вбирая в свою душу горе и беды истерзанной Родины, чтобы созрела его душа; ибо пепел Клааса застучал в его сердце...
И Гек Финн в пути — он плывет по Миссисипи, чтобы увидеть и узнать, а может, и переделать жизнь, как ему видится...
У Гоголя «Ревизор» — «дорожная пьеса». И первая фамилия Хлестакова — Скакунов, что тоже говорит о «дорожном» герое.
И «Мертвые души» — «дорожный» роман.
В дорогу отправляет Гоголь Чичикова, чтобы не только пройти вместе с героем по всей России, увидеть своими глазами многие безобразия жизни российской, но и поразиться силой и просторами ее и чтобы мы вместе с автором имели полное право воскликнуть: «Дымом дымится над тобой дорога, гремят мосты, все остается и остается позади...»
В дорогу отправился и Радищев, чтобы во время недолгого путешествия из Петербурга в Москву рассказать о стольких бедах и несчастьях, что хватило бы их, чтобы ими земной шар опоясать...
В дороге всю жизнь был Пушкин. Как выехал он юношей за петербургский шлагбаум в ссылку, так и пошла колесить его судьба по ухабам и рытвинам России. Петербург, Кишинев, Одесса, Крым, Кавказ, Закавказье, Арзрум, Москва, Казань, Оренбург... «Вы всегда на дорогах»,— саркастически сказал ему Бенкендорф. А Пушкин не унывал — в дороге хорошо думалось, в дороге он уходил от всего, что мешало ему в городе,— в дороге он был свободен и раскован.
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил...
Он и Онегина отправил в путешествие вслед за собой...
И Лермонтов знал ухабы российских дорог, неоднократно выезжая из Петербурга на Кавказ. Он и Печорина заставил все время быть в пути, и, встретившись с ним в последний раз в крепости, попрощался навсегда тоже на дороге...
Символично, что даже Лев Толстой, большую часть жизни проживший в яснополянском уединении, в конце жизни услышал властный зов дороги, ушел из дома и умер в пути.
Горький, почуяв в себе невысказанную нравственную силу, обошел пешком пол-России, уйдя из дому никуда — просто так, в дорогу, в свои университеты...
Дороги, дороги...
Они зовут каждого из нас, потому что в душе каждый из нас, как Дон Кихот, ожидает, что счастье и справедливость там, впереди...
В горах Кавказа.
Мы едем в Кубачи! Много лет я стремился туда, и все никак не получалось. И вот наконец...
Ветреным, промозглым февралем 1981 года мы едем в Кубачи. В Дагестане еще зима — южная, конечно, но зима. Мы едем полдня и только часам к трем взбираемся на вершину, пробив густой покров туч. Внизу, на равнине, дождь со снегом, и в ущелье — тяжелые, сырые тучи. Но наша машина, тяжело дыша (высота около двух километров) все-таки пробивается сквозь них, и мы, как на самолете, внезапно выплываем к солнцу, сверкающему как ни в чем не бывало, словно в летний солнечный день. Какой контраст — внизу мгла и унылость, а здесь солнечно. Мы стоим на вершине, смотрим на сплошной покров туч, клубящихся далеко внизу, и радуемся: солнце с нами.
В Кубачах два села — верхнее и нижнее. Мы — в верхнем, где школа, крошечная фабрика кубачинских изделий, и дома художников — резчиков по металлу. Там же небольшой музей, где собраны уникальные образцы творчества кубачинцев, есть музей и в школе (все его содержимое умещается в обычном сейфе). Ребят сызмальства приучают к ремеслу, которым славны Кубачи. Оно не должно исчезнуть, удивительное искусство народных умельцев, такое же вечное, как Палех, Федоскино. Бережно передается оно от деда к отцу, от сына к внуку. Сейчас стали знакомить с тайнами народного ювелирного дела и девушек.
Вечером нас позвал к себе в гости один из мастеров-художников. Большой двухэтажный дом — целое палаццо над облаками, рядом с ледниками, просторное, удобное — у всех кубачинцев такие дома. В каждом доме художника-кубачинца — специальный зал-музей с личными изделиями хозяина дома и перешедшими в наследство от предков. Домашний музей — гордость хозяев: ни один экспонат нельзя снять со стены, это нарушение традиции, почти святотатство.
Изделия кубачинцев знамениты на весь мир: самые крупные всемирные выставки награждали золотыми медалями мастеров из дальнего горного аула за сотворенное ими чудо, изощренность в сказочном ювелирном плетении. Подобной культуры на Кавказе, кроме Кубачей, нигде не найдено.
Неожиданное открытие: кубачинцы — это не только по названию села, кубачинцы — народность, у них свой язык, отличный от языка других многочисленных народностей Дагестана. Откуда они пришли, с какой стороны, откуда принесли эту культуру — художественную чеканку по золоту и серебру? Откуда это в ауле, и сегодня не близком, а в те глухие времена, когда создавалась традиция кубачинского искусства, затерянном в горах, невидимом снизу, скрытом за вечными шапками облаков? Из каких космических далей пришло к народным умельцам великое это искусство? Никто не объяснил этого. Живут они здесь, высоко в горах, с глубокой древности. Точно никто не скажет, в какие далекие века пришли сюда предки кубачинцев — ушли ли сами с равнины, не поборов стремления быть ближе к небу, их звали горы: были ли загнаны за облака врагами — следы эти потерялись в веках, и тайну рода кубачинского теперь, видно, не открыть. Но уже с IX века шли о кубачинцах вести на Востоке: арабы и персы называли их «зирехгеране», турки — «кубечи» (что значит «кольчужники»). В начале XV века, как гласит одна из арабских надписей, найденных в Кубачах, у них уже была мусульманская школа — медресе. И сегодня можно в стене древней мечети, построенной специально для женщин, прочесть надпись на плите, сделанную в 1694 году Мухаммедом, сыном Ахмеда: «Смерть — истина, а жизнь — обман! Привязанность к этому миру — начало всякого греха». Видно, и философы жили когда-то здесь, на заоблачных вершинах...
Я смотрел в кубачинском музее на изделия из серебра и золота: кинжалы, сабли, кувшины, браслеты, подносы, женские пояса — всего и не перечислить. И все это выполнено с тончайшим художественным вкусом, изяществом, поразительным мастерством — качествами, говорящими о высокой культуре народности, численность которой не превышает тысячи.
В Кубачи привезли несколько групп народных певиц и танцовщиц, чтобы показать мне для участия в Декаде дагестанского искусства в Москве. «Сверху»,— объяснили мне. Я посмотрел на ледники, простирающиеся вокруг. Откуда сверху? Там, вверху, было только синее небо и снежные вершины. Но оказалось — намного выше Кубачей есть аулы. И там на невероятной, немыслимой высоте живут веками люди, и никуда оттуда уйти не стремятся.
...Танцевали женщины, одетые в яркие народные костюмы; на каждой столько серебряных украшений — множество монет, браслетов, цепочек, монисто, что в танце они неумолчно звенели, мелодично переливаясь колокольчиками. Старинные народные украшения, дошедшие от предков этих людей — безвестных народных умельцев, владеющих секретами плести из серебра буквально кружева — такая это тончайшая работа. А как пели они! Дикий гортанный напев, звучащий негромко, затаенно, как песни веков, потряс меня. На мгновение показалось, что разрушена граница времени, все сместилось; что все происходит в непостижимо далекие времена, откуда пришли эти дикие горские песни, исполняемые светлоокими красавицами, звенящими серебром, плавно проплывающими в танце. Во мне долго жило непокидающее чувство подлинности, вечности фольклорного творчества, рожденного над облаками. Это ощущение, пришедшее ко мне в тот памятный день высоко в горах, осталось надолго светлым воспоминанием о Дагестане. Я не раз вспоминал солнечный зимний день в Кубачах и горные вершины, и древние горские песни, напетые горянками, спустившимися откуда-то с поднебесья.
...В горах темнеет быстро. И стоя на утесе, над пропастью, слушая ту невероятную тишину, которую не услышишь на равнине — ни в поле, ни в лесу, которая бывает только в горах по ночам, ты почуешь холод космоса и величие его, и странный покой и кое о чем, может, догадаешься по поводу кубачинцев...
И вновь откуда-то издалека — от молчаливых ледяных громадин, от звездного неба, тишины, поражающей, даже угнетающей своей необъяснимостью горожанина,— приходят пушкинские строки:
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
Горы. Тишина, отрешенность, покой. Но ведь горы — это и постоянная тревога за жизнь, потому что вечно наедине со стихией; и снежные обвалы, и лавины с гор, и мороз, и ветер пронзительный, и вьюги, воющие долгие ночи напролет на тысячи голосов, и снежные заносы, и оторванность от всего мира, наступающая горской зимой... Все это тоже горы. А вот живут здесь счастливые, вольные и озаренные светом высокого искусства кубачинцы. Они — горцы. А горцы должны жить в горах. Этот закон непреложный. И они остались там, на вершине, чтобы всегда видеть, как внизу, под ногами, хмурятся тучи, а над головой сверкает солнце. Может, потому и искусство их такое уникальное, что они — на вершине, и солнце с ними, и ощущение полета не покидает их, и это сильнее, чем любые блага на равнине, внизу, под тучами...
В Индии и на Цейлоне.
Вот уже две недели, как мы в Индии. Мы — это советская делегация, которую я возглавляю как вице-президент Ассоциации деятелей музыкальной культуры ССОД.
Главная наша цель — участие в международном театрально-музыкальном симпозиуме «Восток — Запад», который проводится в Бомбее. Представительство довольно-таки широкое — кроме хозяев симпозиума, в нем принимают участие делегации из ФРГ, США, Японии, Франции, Норвегии, Дании.
«Восток — Запад»... Старая, сложная и довольно-таки запутанная тема. Взаимопроникновение культур, их взаимовлияние — сложнейшая проблема, и, как мне кажется, зачастую мы судим о ней потому, что наиболее бросается в глаза, то, что воспринимается по первому впечатлению и часто бывает далеким от глубинной сущности этой, такой неоднозначной, проблемы.
Мне вспоминается киплинговская «Баллада о Востоке и Западе»:
«Не встретиться им никогда». Но вот встретились.
И идет разговор о том, как и что и куда проникает — с Востока ли на Запад, с Запада ли на Восток?
Каждый день начинается с показа западных авангардистских групп с последующей дискуссией. В спектаклях эклектика полная — что-то от японского «кабуки», что-то от китайской пантомимы, затем куски из брехтовской «Матери» — и Мать с красным знаменем, затем какие-то полуголые герлс...
А сесть нас заставляют в фойе, где идет показ, в кружок прямо на пол, объяснив это великой новацией современного театра (правда, я вспомнил, что так же в кружочке я уже сидел 14 лет назад во Вроцлаве, в театре Гратовского).
А затем — дискуссии, где деятели авангардистского толка выдвигают идеи — одну интереснее другой, в речах — открытие за открытием, говорят горячо, убежденно, а показывают работы, беспомощные с точки зрения профессиональной и ущербные по мысли и направленности. Отдыхаем от этого навязчивого, нервного, настырного по вечерам. Вечера отданы индусскому театру, который пришел из далекой древности и чудом сумел сохранить удивительный аромат древних сказаний «Махамбхараты» и «Рамаяны» и самое поразительное — наивную веру в эти сказочные песенно-танцевальные действа. В них, наравне с реальными образами, совершенно естественно существуют поющие и танцующие драконы, демоны и другая какая-то чертовщина, но никакой грани нет между двумя мирами — реальным и потусторонним. Мир, воссозданный в традиционном индийском театре, многолик, но одновременно единообразен; мир, где все взаимосвязано, слито и постоянно находится во взаимодействии — так же, как в великом индийском эпосе «Махамбхарата».
В этих традиционных театральных действах, построенных на пантомиме, танце, песне, музыке и разговорных сценах, органически синтезировались различные виды и жанры искусств. Истоки этих музыкально-театральных действ в классическом древнеиндийском театре, в ритуальных танцевальных представлениях, которые были характерны для многих племен и народностей Индии, а также в религиозных мистериях, берущих начало в далекой древности. Это был своеобразный массовый театр под открытым небом, поистине народный театр, в котором участвовали как профессиональные актеры, постоянно странствующие по стране, так и городские и сельские коллективы. Здесь у меня — ассоциации с рождением европейского театра, истоки которого тоже в народном площадном действии. Массовые празднества и зрелища, ставшие фактором общественной жизни, явились благодатной почвой для возникновения различных видов зрелищных искусств. Потому что массовое народное празднество всегда было проявлением духа народа, его потребностью, стремлением к единению — как в радостные, так и в горестные дни. Здесь сказывалась общность интересов и устремлений, рождающая сплоченность народа.
Середина января. В Индии зима в разгаре. После полудня ртутный столбик переваливает за 30 градусов. Плюс, конечно. На юго-востоке Индии, в Махабалипураме, где я пишу эти строки, на берегу Индийского океана вовсю продолжается купальный сезон. Океанская волна могуча, и для того, чтобы отплыть от берега, надо пробиваться сквозь стену воды, постоянно поднимающуюся перед тобой. Странно, но Индийский океан у берега напоминает Каспий — желто-мутная волна в полосе прибоя и дальше, до горизонта, серо-синий водный простор с белыми барашками волн.
Я пишу, укрывшись под навесом, у самой кромки прибоя. В бунгало возвращаться не хочется, хотя там прохладно — работают вовсю кондиционеры, но там, в прохладной сырости стилизованного под старину бунгало с большим белым пологом над кроватью, поселились желтые ящерицы и гуляют везде, чувствуя себя как дома. Местные уверяют, что ящерицы в доме к счастью, что они выполняют полезную работу по уничтожению москитов, что вообще ящерки безвредные, только одно опасно — если ящерка зазевается и угодит в кастрюлю с борщом — тогда вся семья отравится, ибо в ней есть смертельный яд (другие уверяли, что это досужие вымыслы).
По счастью, супов я не варю, так что мне не грозит опасность отравиться ящеричным ядом, и все-таки не могу похвастать, что я очень храбрился, глядя, как они вчера вечером стремительно проносились по стенам и потолку. А я, следя за ними из-за полога, скрывающего постель от посягательств москитов и всяческой ползающей твари, вдруг развеселился, увидев себя в положении какого-то опереточного раджи, возлежащего в настоящей индийской спальне под балдахином, и даже запел: «Я раджа, индусов верных повелитель!»
Но смех смехом, а все-таки не спешу я в бунгало, в ящерное царство, остаюсь в пекле, на пляже, хотя сегодня утром здесь мальчишки убили большую черную змею, гревшуюся на солнце в песке, буквально в трех шагах от грибка, под которым я сейчас нахожусь и где вчера ночью гуляли мы в изумлении, что бродим по берегу Индийского океана по колено в теплых океанских волнах, слушаем шум прибоя...
Я лежу и смотрю вдаль, где над серо-голубой гладью океана скользят белые и черные паруса... Это рыбаки, как и много веков назад, выходят на рыбную ловлю на древних индийских ладьях, забрасывают в океанскую бездну невод и, как в сказках, ждут, что вытянет им невод золотую рыбку... «Где парус рыбаря белеет иногда...» — звучит в душе пушкинское. И вспоминается золотая осень в Михайловском, рыбачий парус, скользящий над спокойным озерным зеркалом, тишина, покой, белые прозрачные облака, плывущие неторопливо на юг, в южные страны, где вечное солнце, тепло и открытость ветру, солнцу, каждому дню, радостно встречаемому тобой... Как давно это было! Как мечталось в ту далекую прозрачную северную осень о том, во что сейчас погружен я! Почему же сейчас зовет меня иное небо — неяркое небо северной осени, прохлада осеннего утра и скромное тепло нещедрого солнца, светившего над псковской землей в начале октября...
А здесь, на берегу Индийского океана, зимой солнце такое, что от него приходится прятаться, пережидая жару, от которой плавится тело, и тебе кажется — ты в невесомости, не ощущаешь ни рук, ни ног, будто плывешь в раскаленной солнечной среде. И неправдоподобно, что в эти дни, в эти часы в Москве морозы, пасмурное небо нависло над серым городом, прохожие в шубах, меховых шапках, и из окон нашего дома, вознесшегося над городом, видно, как Москва курится дымами теплоцентрали, дымы висят тяжелыми хлопьями ваты, почти неподвижно... И люди стремятся с промозглых улиц домой, в тепло. Боже, как все это далеко, как трудно поверить, что это есть, что как раз в этот час Ириша идет встречать из школы Ёжика, и Ёжик бежит навстречу в шубке и теплых сапожках, раскрасневшаяся от мороза, обжигающего щеки... Они встречаются и обнявшись идут домой как две милые сестры, торопятся, спешат — мороз подгоняет их, и вот они уже в квартире, где тепло, уютно, а за окном, далеко внизу, морозная Москва, и ей еще два месяца быть такой. И вспоминают, может быть, обо мне, о том, что я сейчас в жарком лете...
...Бьет океанский прибой о берег, бьет, шумит не переставая, солнце лупит нещадно, звенит кровь в ушах, и хочется бежать от этого расплавленного ужаса, спрятаться, зарыться в холод, в снега... Но я не сомневаюсь ни минуты, что там, посреди московской зимы, все постепенно сгладится, забудутся тяжелые «ползающие» ночи и расплавленные дни, а останется — океанский прибой, бело-черные паруса вдали, синее-синее небо, пальмовые рощи и ощущение какого-то бесконечного тепла, разлитого повсюду...
*
В Бангалоре встретились мы со Святославом Рерихом, постоянно живущим в этом самом прохладном месте южной Индии. Ему за семьдесят. Седая окладистая борода, седовласая голова делают его похожим на проповедника, пришедшего из далеких-далеких библейских времен. Он только что вернулся из Гималаев, куда регулярно выезжает по маршрутам, знакомым ему с детства: отец, Николай Рерих, брал с собой в Гималаи всю семью, и для них Гималаи, Тибет — родные места. Там, в поднебесных вершинах, для семьи Рериха по традиции, идущей от отца,— творческая лаборатория и духовный оазис, общение с древними обычаями, обрядами, религиозными культами, сохранившимися в труднодоступных тибетских монастырях.
Художник принимает нас в своем доме, утопающем среди зимнего цветущего сада. Мы стоим у дома, а вокруг пылают красные, желтые, розовые цветы, распустившиеся на деревьях, что мы с изумлением для себя отмечаем. Вместе с Рерихом нас гостеприимно принимает его жена — редкой красоты немолодая индуска с огромными в пол-лица черными очами, знаменитая в прошлом киноактриса. Она немного говорит по-русски, но понимает все. Это видно по ее реакции на нашу беседу, которая на русском языке. Святослав Николаевич по-русски говорит безупречно — красивым, образным, каким-то очень объемным языком. С интересом выслушивает наши впечатления об Индии, рассказывает о своем путешествии в Гималаи. И вспоминаются с детства знакомые легенды о древней обители зимы — «Химавата», где живет владыка гор Хималай и где в прозрачных водах священного озера Мансановар отражаются голубые небеса... И видится все это так же отчетливо и ясно, как на сказочных полотнах Рериха-отца, для которого Гималаи стали такой же заповедной зоной творчества, как и для Гогена — острова Океании...
Течет наша беседа спокойно, доверительно, потому что хозяин прост, естествен и искренне рад встрече с нами.
Постепенно разговор переходит к главной теме, которая волнует всех. Рерих первым начинает разговор о сохранении мира на земле, о политике нашей страны, отстаивающей мир. И на наших глазах превращается в проповедника, горячо и убежденно говорящего о том, что волнует его, сжигает его сердце.
Святослав Николаевич говорил о необходимости спасти мир, говорил как-то по-особенному, по-своему — убежденно, вдохновенно, с великой верой в осуществимость высокой цели — всеобщего мира на земле. Таким мы запомнили его — озаренным, непосредственным, горящим непреодолимым желанием обращаться к людям, звать, разъяснять, проповедовать. Такой он и в благородных своих деяниях, и в удивительном творчестве своем...
О крокодилах...
Кишащий гадами крокодилий питомник под Махабалипурамом, на берегу Индийского океана. Сотни гадов с постоянно открытыми пастями, в которых сверкают огромные резцы, и маленькие свиные глазки, с ненавистью глядящие на нас. Даже вольер с самыми маленькими крокодилятами отвратителен, столько там ненависти и опасности. Когда они кидались к нам, разинув клыкастые пасти, возникало какое-то физическое ощущение гадливости. У одного вольера, где пребывали массивные неподвижные туши, служитель объяснил: «Вот это крокодилы-вегетарианцы». А кто же тогда были остальные, сотнями кишащие вокруг? И захотелось скорее выбраться подальше от этой смрадной «площадки молодняка», чтобы не сверкали перед глазами сотни юных пастей с прекрасными белыми зубами, готовыми быстро и энергично сгрызть все, что попадается им на пути...
...и слонах
Слонов я любил с детства, как, наверное, каждый ребенок. Началось это с детских книжек о добряках слонах, помогающих людям в работе, с рисунков в киплинговских книгах. И у Мулка Раджа Ананда слон был умным, сильным и добрым другом — совсем как Мишка из русских сказок.
И всегда мне жалко было слона в цирке — такая силища, и тратится на обидную ерунду, унижается перед какой-то полуголой девицей, сидящей у него на шее. Помню, я ненавидел эту девицу, считая ее главной виновницей всех слоновьих бед, несчастий и унижений. Плакал я, маленький мальчик, отчаянно, когда наша баба Лиза рассказала, что в бакинском зверинце сотни мышей забрались слону под ноги, сгрызли ему мякоть ступней, и он погиб: было жаль слона и ужасно обидно, что такой вот громадина, такой добряк-великан может погибнуть из-за мышей...
Через много лет снимал я фильм «Представление начинается». Сюжет его, придуманный мной, был чрезвычайно незамысловат: двое мальчишек, не сумев попасть в цирк на представление, ранним утром тайком пробрались за кулисы, их ловил Тусузов, изображавший циркового сторожа, и они весь фильм бегали, прячась от него. С разными зверями, живущими в цирке, встречались мальчишки — медведями, лошадьми, обезьянами, собаками. Одни становились их друзьями и помощниками в борьбе с грозной силой, цирковым сторожем, другие — врагами. Слон, естественно, тоже должен был принимать в этом участие. Но слонов в это время в московской цирковой программе не было, и пришлось «занять» слона в уголке Дурова.
Это было в конце 60-х годов, до появления московского театра зверей. Нам был выделен слоненок со своим воспитателем, который одновременно воспитывал золотого петушка (был тогда в дуровском уголке такой) и по совместительству дрессировал, кажется, шимпанзе. Звали воспитателя Карел. По ходу сценария дети, спасаясь от Тусузова, залезали на слоненка (слоненок помогал им, поднимая мальчишек хоботом себе на загривок). Слоненок старательно выполнял мизансцены и после каждого дубля в качестве презента получал от Карела соленые огурцы. Почему этот слоненок лакомился солеными огурцами, объяснить не могу, но целое ведро соленых огурцов он слопал к концу съемок. В ответ на наше удивление Карел рассказал, что слоненок в начале зимы заболел, его надо было обследовать в амбулаторных условиях, и пришлось вести его пешком по Москве, предварительно для гарантии от воспаления легких напоив его ведром водки. Я не поверил тогда в рассказ слонового воспитателя, но ведро соленых огурцов, съеденное слоненком, подтверждало, что у нашего киногероя вкусы своеобразные.
Слонов на воле впервые я увидел в Индии. Но и там они попадались редко, в основном у входа в гостиницы, где сдавались внаем на несколько минут туристам. Слоны были украшены как-то по-опереточному и лениво вышагивали по кругу, не обращая внимания на визжащих то ли от восторга, то ли от страха туристов. Шел слон-громадина по кругу — спокойный, даже скорее сонный, величественно презирая суету и мелкоту, что вокруг него вилась, думал слон какую-то свою, тяжелую, может быть, думу — покорная мышиным существам силища, мудрая и печальная.
А вот на Цейлоне, ставшем ныне Шри-Ланкой, где я оказался после трехнедельного путешествия по Индии, слоны другие, они — в деле. Идут слоны по дорогам, везут людей, таскают деревья в пальмовых рощах, словом, работают, помогают людям, и настроение у цейлонских слонов, по-моему, хорошее. Наш переводчик, заметив наше восхищение слонами, с гордостью сказал: «Для нас слон и грузовик, и подъемный кран».
По дороге из Коломбо в Канди — город, расположенный в горах, быстро шел небольшой слон, на котором ехали пять мальчишек. В хоботе слон нес целое дерево с ярко-зелеными листьями. Слон был оживлен и доволен — мне показалось даже, что он улыбается. По крайней мере, глазки его сверкали довольно весело. Цейлонцы объяснили нам, что слон тащил домой какое-то лакомство — листья этого дерева любят есть слоны, и, может, поэтому с таким удовольствием бежал он домой, предвкушая вкусный обед.
Днем, часов в двенадцать, слоны лежали в реках, отдыхали от жары и духоты, а рядом купались дети, ползали по слоновьим головам, ныряя оттуда в воду, шумно и весело. По берегам, никого не боясь, бродили большие белые птицы с желтыми клювами и длинными ногами, на деревьях оглушительно пели птицы странного цвета — красно-зеленые, похожие одновременно и на маленьких фазанов, и на больших попугаев. Словно ожили творения Поля Гогена — полудействительность, полусон, полный невероятно ярких сочетаний красок, гармонии человека и природы,— казавшиеся мне всегда полуфантастикой, а теперь увиденные мной наяву. Только солнце слегка растопило сумеречный колорит причудливых гогеновских творений, и они стали еще ярче, призывней. Гогеновский сказочный остров недалеко отсюда — до него часа два лету, и он почти на той же широте, что и Цейлон. Ослепительно сверкало солнце, освещая рощу высоченных кокосовых пальм с золотыми плодами, покачивались на ветру огромные листья банановых пальм с тяжелыми гроздьями плодов, а на земле, на низкорослом кустарнике зрели, наливаясь солнечным соком, золотые королевские ананасы. И все это плыло, искрилось, сверкало в солнечной дымке, оглашаемое громким пением разноцветных сказочных птиц... Сцена в раю...
Пришли на память так верно рассказавшие нам о Цейлоне бунинские строки:
В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни,
В болотистых низах, в долинах рек — потоп.
Слоны залезли в грязь, стоят, поднявши бивни,
Сырые хоботы закинувши на лоб.
...Вокруг алеют розами фламинги,
По лужам дремлют буйволы. На них
Стоят, белеют цапли...
...Сверху, из листвы,
Круглят глаза большие обезьяны...
Бунин нашел удивительные слова, точно определившие то полуреальное ощущение, в котором пребывал я все время на Цейлоне: «Все дико и прекрасно, как в Эдеме». Это ощущение живо и сегодня, хотя прошло уже немало времени, и оно кажется совсем неправдоподобным в заснеженной зимней Москве...
Цейлонские монахи
Зимним солнечным днем по Канди ходят молодые монахи лет от 15 до 20, в оранжевых накидках наподобие тог и с черными одинаковыми зонтиками. Мы были удивлены, увидев, что они пришли на наш концерт в Кандийский университет. Оранжевые монахи чинно сидели в первом ряду, молча, положив черные зонтики на колени, сложив руки на груди: не аплодировали, но очень внимательно слушали и смотрели. По окончании концерта быстро поднялись и молча ушли. Молодые буддисты, студенты университета, учатся на философском факультете, изучают буддийскую философию...
У птицы есть душа
На Дарвина человечество должно было обидеться дважды: первый раз за обезьян, обозначенных первоисточником рода людского и приравненных к нам. Но так как мы знаем это со школы, свыклись с этим с детских лет, то и не обижаемся (правда, современная наука нас несколько реабилитировала, успокоив человечество, что скорей всего предки наши — не гамадрилы и павианы, а дельфины. Это все-таки приличнее — как-то дельфин респектабельнее выглядит, да и улыбка у него обаятельная).
А вот второй раз за то, что Дарвин утверждал, будто не одному только человеку доступно чувство прекрасного, и пусть он не очень возносится над всем животным миром, наделяя себя сверхъестественными качествами; в эстетическом освоении природы у него есть конкуренты, так как животным, как и человеку, свойственно «эстетическое чувство», и птицы, к примеру, в состоянии давать оценки в плане художественном. «Гнезда колибри и увеселительные беседки пестрого плащеносца,— утверждал Дарвин,— искусно убраны ярко окрашенными предметами; а это доказывает, что созерцание подобных предметов доставляет им известное удовольствие... Приятное пение самцов многих птиц в период любви, без сомнения, нравится самкам; ...человек и многие низшие животные одинаково наслаждаются одними и теми же красками, ... одними и теми же звуками»[106].
Гипотеза интересная, хотя и не очень лестная для нас с вами. Утешимся тем, что опровергнуть ее так же трудно, как и доказать — ведь с птицами не поговоришь на их птичьем языке. Так что — ничья. Хотя и обидно. Особенно нам, художникам. Но, оказывается, за птиц вступился еще один уважаемый всеми ученый, который был к тому же и художником, и скульптором. Задолго до Дарвина он провел параллель между душой человеческой и птичьей! «Птица действующий по математическим законам инструмент, сделать который в человеческой власти со всеми движениями его. Потому, скажем, что этому построенному человеком инструменту не хватает лишь души птицы, которая должна быть скопирована с души человека»[107]. Тем более, что так и случилось. Речь ведь шла о создании летательного аппарата, и Леонардо да Винчи (а это был он) просто весьма точно на века вперед предсказал, что искусственная птица сама не полетит, что ей нужна человеческая душа — иными словами, пилот. Так что, по Леонардо, пилот, ведущий самолет,— это человеческая душа, заменившая птичью.
И все-таки опять о птичьей душе...
Осень на Каспии. Уже холодно, никто не купается, даже местные мальчишки. Серо-зеленое море штормит, по грязному небу стелются рваные тучи. К берегу иногда подплывают небольшие каспийские тюлени. Купальный сезон закончился, по берегу можно часами бродить, и никого не встретишь. Только колонии чаек, большие колонии — по 60—70 серо-белых птиц. Они замечают шагов за 50, что я иду к ним; не спеша, одна за другой, плавно поднимаются от земли, и тогда возникает удивительная по цветовой гамме картина: большие серо-белые птицы медленно плывут в сером небе над серо-зелеными волнами. Они кричат — мне кажется, это в мой адрес. Отлетают, садятся на волны метрах в 100 от берега. Часть из них продолжает низкий полет над волнами, время от времени камнем падая в воду и тут же взмывая с трепещущей серебристой рыбкой. Эту картину я наблюдаю ежедневно, когда часами брожу один по песчаному берегу.
И вот однажды...
Такой же серый день идет к концу. Уже 6 часов, скоро стемнеет. Вся колония чаек покачивается на волнах недалеко от берега. На берегу одна-единственная чайка. Что она делает здесь, когда все ее подруги в море? Я останавливаюсь, боясь спугнуть ее. Но она меня не замечает, потому что сильно занята: чайка... играет с волнами. Она стоит грудью к волнам, у самой кромки воды, дожидается волны и убегает от нее на берег, оглядываясь и кося глазом. Откатывается волна, и чайка возвращается к самой кромке воды. Новая волна накрывает берег — и продолжается та же игра: чайка отбегает, игриво оглядываясь на воду, и возвращается, когда та уходит. Но вот эта игра надоедает птице, и тогда она вновь встает грудью к волне, но теперь не убегает от нее. Море подхватывает чайку, покачивает ее и выбрасывает на песок. Откатывается волна, и чайка вновь возвращается к самой кромке. Игра возобновляется. И так — бесконечно. Чайка была так увлечена игрой с волнами, что не заметила меня. Я подошел близко к ней, встал рядом, и только тогда она, резко повернув голову и глянув на меня, улетела с тревожным криком к своим подругам в море. А мне стало стыдно, что помешал птице играть в такую увлекательную игру.
Что это было? Чайка не охотилась за рыбой, не спасалась от врагов, она не занималась ничем, так сказать, «по делу». Она играла, получая от этого удовольствие. Я сам это видел. Так что разговор о птичьей душе и об эстетическом чувстве, живущем в душе у птицы, близок к истине.
...К вечеру низко над морем прошел косяк журавлей, недалеко от берега. Я долго смотрел вслед — большие серые птицы не спеша, плавно помахивая крыльями, торжественно улетали к югу, наверное, в Африку, к берегам южных морей. Постепенно они растворились в сером небе, закрытом низкими осенними тучами. И я вспомнил вечер на Волге: в верховьях ее, между древним Калязиным и Кимрами в конце августа, месяц назад. Стояли мы у нашего домика, провожая журавлей, медленно и торжественно улетающих под низкими тучами к светлеющей на юге светлой полосе неба. Будет ранняя зима, решили мы, раз птицы так рано собрались в теплые страны. Птица ведь все чует заранее и лучше, чем наши институты прогноза и даже сейсмические приборы. И показалось, что журавлиный косяк — тот самый, который мы проводили на Волге, и вот опять я его встретил (мне очень хотелось, чтобы это были «наши» журавли). Им понадобился месяц, чтобы добраться сюда, к берегам Каспия, куда я прилетел всего за 2 часа, недовольный долгой и нудной дорогой. А птицы летят десятки тысяч километров и ничего, выдерживают. До сих пор не могу понять: как же птицы находят верный путь — от гнезда до гнезда, через половину земного шара, ни разу не ошибаясь. Говорят, ночью летят они по звездам, как в древности мореплаватели ориентировались в открытом океане, а днем — по земным ориентирам. Значит, журавли, лебеди и другие пернатые знакомы с законами астрономии, если они способны ориентироваться по звездам. Говорят, что путь через полмира записан в птичьем наследственном коде. Но каким загадочным путем этот код, если он существует, становится точным и безошибочным путем из Якутии в Индию? Сколько же тысяч земных ориентиров они должны держать в памяти, добираясь воздушным путем с Севера в Африку? Какие же лоцманы их вожаки, какое запоминающее устройство должно быть в птичьей памяти?.. И эта память должна же где-то жить в птичьем малом организме. Феноменальная память, знание астрономии, точность, мудрое терпение (надо же долететь, а потом вернуться домой, выводить птенцов, продолжать жизнь рода). Это уже не просто заячьи инстинкты или волчья злость, рожденная звериным голодом. Это — душа, пусть и птичья, но все-таки душа.
*
Осень. Маленький кавказский санаторий на берегу Каспийского моря. По ночам шумит неспокойный Каспий, шумит ветер в парке, и немного жутковато одному в маленьком доме у самого моря. А днем — хорошо, спокойно. Во всем санатории пожилые отдыхающие, зато врачи только молодые. Много чернооких молодых докториц, совсем молоденьких, почти девочек, недавно окончивших местный мединститут.
По вечерам, после кино, на танцплощадке собирается весь санаторий. Заводят самые современные песни, танцуют под них и молодые, и пожилые, вернее, не танцуют, а дергаются неловко и неуклюже, приседая и вихляясь друг перед другом. Они несколько растерянно улыбаются, озираясь по сторонам, словно ищут поддержки. Я наблюдал за ними и не мог избавиться от странного ощущения неудобства. Что-то мне все время мешало — не скажу «пошлость», ибо это слово странно произносить в применении к санаторной танцплощадке, она никогда не была мерилом вкуса. Но нечто наподобие этого слова вертелось на языке.
И вот однажды вечером культурник, как именовали все преисполненного достоинством человека, заведующего «культурным отдыхом трудящихся», принес новую фонограмму. И неожиданно над парком разлилась, зазвенела темпераментная национальная музыка. Взмыла стремительная мелодия, отбивали бешеный ритм кавказские барабаны, и вслед первым тактам музыки над танцплощадкой вознесся к темному небу восторженный клич: так санаторий встретил родные напевы. Через мгновение все пространство танцплощадки превратилось в нечто бушующее, стремительное, изящное и очень красивое.
Как они танцевали!
Ритмично, радостно и с таким наслаждением, что группа нетанцующих москвичей и ленинградцев не могла удержаться от аплодисментов и криков «браво»! А потом был следующий национальный танец, потом еще. Был и какой-то особый, когда в круг вышли только пожилые люди, и с достоинством, не спеша, танцевали.
Удивительный то был вечер. И подумалось: вот уйдем (и уходим ведь, быстро уходим!) от своего, подлинного, корневого, а что приобретем взамен? То, что современно сегодня? Но ведь завтра «современным» станет очередная однодневка, послезавтра — еще, и так без конца. Суета, метания. А к чему это? Ведь национальное, фольклорное — вечное, это будет и должно быть всегда. Но как же удержать его в душах людей, не дать утопить вот этими «новинками», как объяснить им, что в своем, родном, что воспитано не одним и не двумя поколениями, а веками, они сильны и прекрасны, а в том, что болтается рядом, чужое — нелепы и жалки? И, наверное, это касается не только санаторной танцплощадки, а вещей более серьезных?
И снова о театре
В 1953 году в Татарском театре оперы и балета с «Пиковой дамы» я начал как режиссер — это был мой дипломный спектакль. Театр в финансовых делах горел синим пламенем, озверел от экспериментов с новичками (до меня ставили спектакли три дипломника из ГИТИСа), требующими внимания, долгих сроков репетиций и особых условий работы, поэтому, предложив мне «Пиковую», там питали надежду, что я струшу и откажусь. Но я ужасно обрадовался — это была моя мечта. И когда театр, спохватившись, хотел увильнуть и отказаться от «Пиковой дамы» и от меня, было уже поздно: я добился всякими правдами-неправдами постановки.
Мне было 22 года, я начал работу в театре над одним из сложнейших философских произведений мирового оперного репертуара и волновался ужасно, врал, что мне 28 лет (все удивлялись — «какого молодого режиссера нам прислали», а если б узнали правду, наверное, просто выгнали из театра). Боясь раскрыться на людях, я старался держаться значительно и несколько загадочно, подражая своему учителю Л. В. Баратову, которого старые актеры помнили,— он перед войной ставил в Татарском театре первую оперу Н. Жиганова «Алтынчеч», премьера ее состоялась 22 июня 1941 года. Артистам импонировало, что я в поведении напоминал им Леонида Васильевича — даже трубку тогда курил. А поздние вечера были моими. Я каждый вечер оставался в театре после спектакля, дожидался, когда все уйдут, когда потушат свет и в зале и на сцене. Я выходил на сцену и один играл подряд все эпизоды «Пиковой дамы» — мне было легко, чувствовал я себя свободным от дневной зажатости, и сами собой начинали придумываться эпизоды, которые я тут же распределял по пространству сцены, пробовал, менял... Потом садился в темноте в зрительном зале и еще раз проигрывал, но уже со стороны зрителя, все, что придумалось в эту ночь...
О магическом воздействии пустого ночного театрального зала я читал в режиссерских воспоминаниях не раз, у меня не хватало только традиционного пожарного, дежурящего ночью в театре. Но в Татарском театре почему-то этот персонаж ночью не появлялся, может, его в те годы и вообще не полагалось по штату. А вот кошки на сцене ночью бегали, их почему-то в театре было много. Днем их не видели, они прятались по разным щелям...
С той святой поры моего режиссерского детства я полюбил безмолвный театр, темный зрительный зал и пустую сцену, погруженную во мрак, освещенную одним-единственным лучиком, падающим откуда-то с неба. Особенно почему-то тянет туда после премьеры, независимо от того, удачно она прошла или нет. Хотя, по-моему, для режиссера удачных в полном смысле слова премьер не может быть — его всегда что-то будет раздражать в спектакле, на сцене обязательно должна произойти неожиданность и всегда — неприятная. Наверное, режиссер выходит кланяться на премьере с мрачным видом, натянуто улыбаясь потому, что его многое не устроило в спектакле, который с таким нетерпением ждали, на который надеялись, и в котором, как выяснилось, еще так много несделанного...

Интервью для программы «Время» с Г. Литинским и Т. Хренниковым
Странный организм — спектакль. Пока его ставишь, репетируешь — сколько бы его ни репетировал — его не существует. Ни прогоны, ни генеральные — еще не спектакль. Он рождается лишь на премьере. Лишь на премьере высекается искра подлинного творчества — искра от соприкосновения актеров с энергией, льющейся из нескольких тысяч требовательных зрительских глаз. Да, только на премьере заканчивается трудный подготовительный период спектакля и начинается период не менее сложный — его жизнь на сцене. И если подготовительный период построен верно, то спектакль на премьере рождается полнокровным, здоровым, ему уготована долгая жизнь. Но многое еще придется сделать в процессе существования спектакля, чтобы он нормально рос и развивался. И в театре это, по счастью, возможно. А вот когда сидишь на просмотре своего фильма и видишь — вот лишний эпизод, лишние кадры, лишний текст, здесь надо подрезать, здесь провисает, и в середине надо бы резануть... Но — поздно, фильм смонтирован и озвучен, производство его окончено, кусай теперь локти, и ничего не поможет. Фильм никто переделывать не даст — слишком дорогостоящее это производство, и никуда ты теперь не денешься. Так что утешай себя: хорошо, что сегодня премьера была в театре, а не в кино. Все-таки есть надежда — что-то еще можно сделать.
И вот сидишь один в темном зале, где недавно гремели аплодисменты, звучал оркестр, пели певцы, шумела, ревниво волновалась премьерная публика. Теперь я один. Еще не опущен противопожарный занавес (его в театре называют «железным», хотя он железобетонный). Сцена открыта. Она открыта мне, как никогда днем. Сейчас это не просто подмостки, чтобы на них встали актеры, сейчас она — таинственный ночной мир, вобравший в себя эмоции нескольких поколений людей театра и многих зрительских поколений. Сгусток творческой энергии никуда не пропадает, он остается здесь, в стенах театра, конденсируется, вступает во взаимное общение с сегодняшними людьми театра, со зрителями спектаклей, идущих в театре сейчас.
Мне казалось, что здесь, на ночной сцене, саккумулирована энергия замечательных певцов-актеров, игравших на этой сцене, атомная энергия Немировича-Данченко, до последних дней жизни болеющего за «театр моего имени», к которому (так мне кажется) в последние годы у него было расположено сердце больше, чем ко МХАТу. Здесь постоянно будоражила театральный покой взрывная энергия Баратова — верного ученика Немировича-Данченко. Здесь ставили спектакли И. Туманов, В. Бурмейстер, Л. Михайлов, с которым мы учились в ГИТИСе, на курсе у Л. В. Баратова.
А потом, дома, я буду долго стоять у окна, смотреть с высоты птичьего полета на заснувшую Москву, слушать отдаленный шум одинокой машины, спешащей куда-то по тишинским переулкам, и решать — что же мне делать завтра (то есть уже сегодня утром) на репетиции — ведь пора начинать новый этап работы над спектаклем.
Я не люблю, когда на репетициях посторонние люди, заглянувшие в театр из любопытства; обычно на репетициях, как правило, сидели только мои гитисовские студенты и стажеры театра. Больше никого я не пускал, ибо это мешало и актерам, и мне — присутствие на репетициях посторонних.
Особенно, когда начинается болтовня сидящих за спиной. Я этого просто не выношу — болтовню, анекдоты, сплетни и как раз в тот момент, когда ты с актерами пытаешься найти сложные психологические нюансы, ибо каждая репетиция — бесконечная цепь различных психологических этюдов, непредсказуемость которых зачастую феноменальна. А в это время — торопливый шепот, прерываемый междометиями, а следом — сдавленный хохот за спиной: значит, очередной анекдот «дошел» до слушателей. Нет, нет, упаси меня бог от такого театра, это же оскорбительно — вот такая работа, сильно попахивающая любительщиной и халтурой. Режиссеры, послушайте — не пускайте посторонних в театр, не будьте добренькими, это интеллигентское «добро» обращается во зло против театра, против дела и в первую очередь — против нас с вами.
О самом разном
Проблема воспитания — у всех на устах. Различные есть мнения, зачастую взаимно исключающие одно другое.
Как воспитывать режиссера или артиста? Какую профессиональную школу брать за основу? Какие ступени должен пройти ученик в процессе воспитания?
А вот, например, каратэ в Японии преподается так: первый год обучения тренер (сэнсэй) — то есть учитель, педагог — никаким профессиональным приемом каратэ с учениками не занимается. Занятия состоят из общефизической подготовки, а главное — не удивляйтесь! — из постоянных бесед учителя-тренера о... нравственности. Да, как это ни удивительно, целый год с молодыми, которые могут в дальнейшем калечить, даже убивать людей, ведутся беседы о нравственности. И кажется мне справедливо, что молодым, которых обучают силовым видам спорта, преподают вначале уроки нравственности, понимая, очевидно, что обучение такому опасному делу, как каратэ, без воспитания нравственной основы — по сути своей безнравственно.
А мы, вручая в руки молодых такое сильнодействующее оружие, как режиссура, не всегда заботимся о том, чтобы предварительно воспитать человека, гражданина. Так как же быть нам, педагогам, воспитателям молодого театрального поколения, какую же долю нравственного воспитания должны мы вносить в педагогику, когда мы воспитываем не специалистов по выворачиванию челюстей и переломам рук и ног, а деятелей культуры, то есть создателей духовной жизни народа! Поневоле задумаешься — а не остановились ли мы, не топчемся ли на месте в деле духовного воспитания молодой смены и, может, вовсе не с того конца начинаем?
Тайна авторского исполнения заключается, очевидно, в том, что автор как, бы возвращается к самим истокам сочинительства, невольно вскрывая перед нами процесс творчества, все его самые тайные уголки и пути.
Поэтому я так люблю слушать записи авторского исполнения Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, слушать чтение собственных стихов Маяковским, Есениным, Багрицким.
Мы привыкли к железным стереотипам: Маяковский — трибун, Есенин — лирик. Так это крепко вошло в нас, что мы и сами читаем про себя Маяковского, не делая исключения ни для одного из его стихотворений, с внутренним ощущением ритма марша, а Есенина (памятуя, что он лирик, отразивший в своем творчестве «печаль полей») — заранее настраиваясь на слезливую интонацию обреченности, жизни уходящей, растворяющейся. Эти стереотипы свили себе гнездо и на концертной эстраде. Иной раз видишь стоящего на эстраде человека с широко расставленными ногами, уверенно рубящего руками воздух чуть не на каждом слове и громогласно, заученными интонациями выкрикивающего нечто маршеобразное — можно даже не слышать произносимого текста — ясно: читают Маяковского. И такое впечатление, будто ожил памятник и зашел с площади Маяковского сюда, на эстраду и заговорил чугунным голосом так, как и должен говорить памятник. Но на сцене-то стоит живой артист и читает стихи гениального лирического поэта так, как их, наверное, прочитал бы Каменный гость — статуя Командора... Или если с тоскливыми подвываниями сентиментально читает дама у рояля, или же пожилой артист, увлажнив глаза, почти выпевает нечто протяжное и мелодическое, ясно: это — Есенин. Но совсем не такой, каким он был на самом деле, а такой, каким мы его сделали.
А сами поэты? Как они трактовали свои произведения? Что виделось им самим? Если вам посчастливилось услышать запись Маяковского, читающего свое «Послушайте»,— вы несказанно удивитесь: да где же пресловутый ритм марша, трибунность, выкрик? Ничего подобного! Мягкостью, задушевностью, лиричностью, даже печалью веет от бархатного, раскатистого голоса Маяковского. Да и юмор его здесь окрашен как-то печальной нотой. Вот таким — лирическим, негромким, совсем не трибуном в шаблонном понимании предстает Маяковский, исполняющий свое стихотворение «Послушайте».
А Есенин! Послушайте в его исполнении «Исповедь хулигана» или монолог Пугачева: крик, протест, упрямая своевольность. Голос звенит, как натянутая струна, готовая разорваться от предельного напряжения. Когда я впервые услышал голос Есенина, я решил, что меня разыграли,— так непохож был эмоциональный поток, неудержимо рвущийся сквозь шип и треск старой пластинки, на тот стереотип, который мы сами создали, старательно отшлифовали, выпестовали и трогательно сохраняем, вместо того чтобы выбросить его к чертям.
...Наслаждение — слушать записи самого Рахманинова. Вот уж где авторский подтекст, авторский «второй план» приобретает характер закономерности, определенные черты хрестоматийности. У нас есть выдающиеся исполнители фортепианных концертов Рахманинова, чье великое мастерство потрясает, когда слушаешь их. Но та предельная органическая цельность, которая ощущается в авторском исполнении, доступна лишь ему одному.
Когда погружаешься в звучание прокофьевского Первого фортепианного концерта в авторском исполнении, то невозможно отстраниться, абстрагироваться от сверкающего потока юношеской радости, счастья, льющихся прямо в сердце твое.
Тайна авторского исполнения кажется мне в том, что в нем присутствует некая исповедальность — драгоценнейшее качество, в полной мере доступное только самим авторам.
Н. М. Карамзин когда-то утверждал: «Творец всегда изображается в творении и часто — против воли своей»[108].
Знаменательное признание творца!
*
Порой мы путаем юмор и сатиру, и при нашем неточном понимании терминологии невольно смешиваем их в одно, забывая, что, являясь классификацией комического, юмор и сатира вместе с тем по-разному освещают проблемы, к которым они прикасаются. Разницу между сатирой и юмором великолепно определил Маяковский: «Метла сатиры, щетка юмора»[109]. Потому что если в основе юмора — доброе отношение к изображаемому объекту, и его цель — добродушно посмеяться над тем или иным явлением, то основой сатиры является гнев, желание уничтожить объект сатиры.
Юмор весело посмеивается над нашими недостатками, сатира же властно требует искоренения.
Юмор добр, сатира безжалостна.
Это, как говорил Маяковский, «животные разной породы».
*
Мы часто говорим «красиво» или «некрасиво», и этим исчерпывается разговор, оценки, позиции в искусстве... Мы привыкли к этому и принимаем как должное расплывчатость и неточность, таящиеся за этими словами. А еще Л. Н. Толстой протестовал против этого, требуя выбросить из теории искусства понятие красоты. Он считал, что это понятие ввиду своей «ужасной неясности» может только запутать и что многочисленность мнений, противоречивость и путаница в эстетике обусловлены тем, что эстетические проблемы решаются через призму определения красоты как предмета и цели искусства. Он утверждал, что существует «странная заколдованная неясность и противоречивость в определении красоты»[110].
Сродни этому то, что часто приходится слушать на различных обсуждениях, конференциях, посвященных проблемам искусства: «мне нравится», «мне не нравится». Почему мы стали так просто и небрежно относиться друг к другу, так мало ценить труд других, чтобы позволить себе такое вот «нравится»? А если вам не понравится, значит — плохо? Но почему?
Ведь это же ни на чем не основано — такой разговор, ставший зачастую нормой для определения эстетических проблем. Это рядом с «красиво» и «некрасиво». Толстой был прав, что общие понятия ничего прояснить не могут, а только добавляют путаницы. А ее и так у нас много. И в эстетических оценках музыкального театра в том числе.
Не могу найти объяснение следующему феномену: критик сидит на спектакле, приоткрыв рот, увлеченно аплодирует артистам, искренне радуется спектаклю, потом приходит домой вечером, насупливает лоб и пишет рецензию, из которой следует, что спектакль, при всем кажущемся благополучии, являет собой не что иное, как образцовый набор хрестоматийных недостатков, кои необходимо категорически искоренить в дальнейшей работе над спектаклем. Тут же в известных культурных ведомствах, накануне одобривших спектакль, начинается традиционная паника и требования учесть замечания газеты (журнала, сборника и т. д.). А критик, умыв, естественно, предварительно руки, отправляется на следующий спектакль, где сидит довольный, аплодирует артистам, приветствует постановщиков, затем приходит домой, насупливает лоб и...
Что им движет? Ощущение прокурора, который, в противовес адвокату, должен обязательно осуждать, а не защищать? Может, потому, что в искусстве удобнее и безопаснее быть прокурором, чем адвокатом? А если вовремя поддержать? А вдруг кому-то потом не понравится, а? А ты сказал, что хорошо, да? А почему ты так благодушно настроен? Может, за этим что-то есть? Твое дело не дифирамбы петь, а обличать и исправлять. Другое дело, если ты обругал: в любом случае здесь ты на высоте. «Кому-то» не понравился спектакль — значит, ты прав, ты первым сигнализировал, что не все благополучно, первым бил тревогу. Понравился — значит, его улучшили в результате твоей критики. Значит, опять ты прав! Вспоминается булгаковский критик Латунский, казнь над которым в отместку за убиение романа Мастера совершила Маргарита (как помните, став ведьмой, залетевшая в квартиру критика на восьмом этаже). Вспоминая про это, можно только пожалеть, что не у всех нас жены ведьмы и что летать не могут.
Конечно, я не обо всех критиках. У нас есть целый ряд высокопрофессиональных критиков, подлинных помощников для нас, практиков. И доброжелательных, и умных. Но и Латунские тоже есть. Это точно.
Вместо послесловия
Чернышевский говорил, что не только в искусстве, не только в нравственных, философских, общественных вопросах ни одна дельная мысль не высказывается, не подавая повода к возражениям, даже в математических науках истина никогда не принимается без противоречий...
Наверное, так было всегда и так всегда будет. Не сомневаюсь, что так будет воспринята и моя книга. Многие не согласятся с тем, что я написал. Будут спорить. Иные — возмущаться. Иные — доказывать противоположное. И ругать меня. И, может, даже справедливо. Но, когда я писал, я не думал о том, чтобы все в книге было гладко и мягко, «не подавая повода к возражениям». Я высказывал свою точку зрения на те или иные стороны профессии как практик. И не сомневаюсь — по поводу каждого положения могут быть высказаны суждения диаметрально противоположные.
И это естественно. Более того — необходимо. Чем больше мы будем спорить (я имею в виду не споры на научно-практических конференциях, а, скорее, самостоятельность творческой позиции и отстаивание ее не только в дискуссиях, а в творческой практике), тем будет больше пользы для нашего общего дела.
Непростые времена настали для театрального искусства. Наряду с традиционными его формами возникают новые формы — и поэтического музыкального театра, и музыкальной публицистики, и оперы-монолога, и многое другое. Все они в равной мере имеют право на самостоятельную жизнь.
Это не случайность и не чья-то прихоть. Это жизнь наша, ее динамика, стремление высказаться, найти способ самовыражения, обострить проблемы, пробиться к сердцам людей.
Мне очень хотелось написать эту книгу. И не только потому, что она в некотором роде — итог, хотя итоги подводить еще рано. Я еще должен многое поставить. И классиков, и современных авторов. Много лет я мечтаю о «Борисе Годунове» и, стыдно признаться, до сих пор не могу отважиться подойти к этой глыбе. Как решить одно из глубочайших мировых художественных созданий? Хотя давным-давно знаю всю оперу наизусть — буквально каждый такт этой феноменальной музыкальной драмы. Я должен поставить рахманиновскую «Франческу», которая снится мне много лет, моцартовского «Дон Жуана», «Огненного ангела» Прокофьева...
Когда я впервые услышал «Поэторию» Щедрина, я понял: я обязан ее поставить. Поэтическая оратория, трагическое народное действо на музыку Щедрина, где в удивительном органическом сплетении спаяны древняя Русь и космический век, где в сложнейших музыкальных построениях рождается образ народа — мудрого и вечного, как сама Жизнь, Земля, Вселенная... Я мечтаю о «Поэтории», стремлюсь к ней и не могу решиться приступить к постановке — слишком высок поэтический полет ее, и глубока подспудная сила, бушующая в произведении.
То мне видится долгая, бесконечная дорога в сумерках и женщина, идущая по ней — то ли мать-земля, то ли сама дорога, ожившая многострадальная свидетельница разных эпох и бед народных... То видятся безжизненные неохватные космические дали и зов живого человеческого голоса, стремящегося пробиться сквозь пространства космоса, пробудить их к жизни, отдать им сердечное тепло... То сквозь вязкий туман, нависший над северными озерами, начинают проступать строгие лики святых, смотрящих пристальными очами прямо в душу твою... Это видение сохранила память на долгие годы — видение, возникшее когда-то, в начале июля — в белую ночь в маленькой деревянной церкви, то ли на Вычегде, то ли за Северной Двиной... Воображение множится, меняется, растет, и каждый раз, когда я слушаю музыку «Поэтории», у меня возникают все новые и новые образы и ассоциации — вырастают, плывут откуда-то издалека, из глубины памяти моей или из какого-то трудно объяснимого словами предощущения будущего — его предчувствия, предвосхищения... И гудят, звенят в ночи колокола — колокола времени, колокола вечности, отсчитывая века, возвращая нас в Древнюю Русь и направляя в будущее память — бьют колокола, тревожно, зовуще.
«Матерь Владимирская, матерь Владимирская...»
Россия, Россия...
И музыка, и сорванный обнаженными нервами голос Андрея Вознесенского — зов совести, зов правды народной — это «Поэтория». Все это мучает меня, не дает покоя, кажется близким, моим, и вместе с тем непознанным, недостижимым...
И долго будет мучить меня, что новая опера-сатира Т. Н. Хренникова «Голый король», либретто которой написано Робертом Рождественским и мной, для меня так и осталась работой только авторской — а ужасно хотелось ее поставить самому.
И долго еще будет звучать во мне музыка Хренникова — яркая, острая, сатирическая, и чеканные стихи Рождественского, наполненные подтекстами, в которых явственно читается не только второй, но и пятый планы... И долго еще будут преследовать меня видения сатирических фантасмагорий, и вся та чудовищная неправда и издевательство над разумом, которые торжествуют в неведомом королевстве, в котором вынуждены обитать наши герои до самой минуты просветления, когда ребенок делает открытие, простое и ясное, но недоступное для всех — король-то голый!
Я готов хоть завтра начать ставить спектакль — так ясно вижу его, и общее решение, и частности. Но, видно, не суждено на этот раз увидеть на сцене то, что видится мне в бессонные мои ночи...
Как же в душе режиссера рождается образ, созревает, развивается сложнейший, во многом непознанный процесс, в котором в полную силу вступает подсознание? Тайные его пружины никем пока не расшифрованы. А я уверен — и не будут никогда расшифрованы, ибо творчество глубоко индивидуально, в этом смысле его и ценность, его неповторимость...
...Еще
не найден бензин,
что движет
сердец кусками!
Так утверждал Маяковский более полувека назад. Так мы можем утверждать и сегодня — оно, это горючее, не найдено и по сей день. И открыть его невозможно. Движущие силы души у каждого свои, собственные, здесь нет общих закономерностей и правил.
Я написал книгу о своей профессии, которая взяла у меня более 30 лет жизни. Я не теоретик — я практик, и поэтому тот, кто будет искать в моей книге теоретические изыскания, будет разочарован, ибо эта книга практика о практике. Мне хотелось поделиться своим многолетним опытом, рассказать о том, что я сам видел, слышал, делал, чувствовал. Может где-то я и перегнул, отстаивая свое, ибо, если ты убежден в своей позиции и борешься за нее, неизбежны перегибы и перекосы. Здесь важно другое — чтобы позиция была. Мы зачастую привыкли к тому, что без позиции как-то все-таки легче. Одно время это даже в официальных документах называлось «гибкостью». А я убежден — нет и не может быть «гибкости» в нашем деле, ибо в искусстве пресловутая «гибкость» оборачивается отсутствием позиции, всеядностью, а это может привести к беспринципности...
Книга написана. Дальше она будет жить своей жизнью, отдельно от меня — самостоятельный живой организм, в котором многое будет от меня, но как-то вдали, и я со стороны буду смотреть на то, что когда-то было моим, родным.
И мне хочется на прощание пожелать моему детищу «счастливого пути».
[1] Станиславский К. С. Собр. соч. В. 8 т.— М., 1959. Т. 6. С. 320.
[2] Там же.
[3] Мейерхольд Вс. Э. Собр. соч.: В. 2 т.— М., 1968. Т. 2. С. 156—157.
[4] Чайковский П. И. Полн. собр. соч.: В. 17 т.— М., 1978. Т. 16а. С. 29.
[5] Станиславский К. С. Собр. соч.: В. 8 т.— М. 1954. Т. 1. С. 386.
[6] Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского: В 3 т. — М.; Лейпциг, 1902. Т. 3. С. 388.
[7] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 15б.— М., 1977. С. 38.
[8] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 8.— М., 1963. С. 444.
[9] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 14.— М., 1974. С. 427.
[10] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 8.— М., 1963. С. 445.
[11] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 7.— М., 1961. С. 262.
[12] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 14.— М., 1974. С. 228—229.
[13] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 15б.— М., 1977. С. 87.
[14] Русские писатели о литературе: В 2 т.— М., 1939. Т. 2. С. 129.
[15] Горький А. М. О литературе. — М., 1953. С. 420.
[16] Чайковский на московской сцене.— М., 1940. С. 61.
[17] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 8.— М., 1963. С. 445.
[18] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 7.— М., 1962. С. 127.
[19] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 9 т.— М., 1910. Т. 9. С. 382.
[20] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т.— М., 1947. Т. 3. С. 427.
[21] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 16а.— М., 1978. С. 29.
[22] Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т.— М., 1950. Т. 6. С. 82.
[23] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т.— М., 1958, Т. 7. С. 213.
[24] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 6 — М., 1961. С. 275.
[25] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 7.— М., 1962. С. 69.
[26] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 6. — М., 1961. С. 136.
[27] Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т.— М., 1959. Т. 6. С. 320.
[28] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 15б.— М., 1977. С. 238.
[29] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 2.— М., 1953. С. 90.
[30] Там же. С. 153.
[31] Станиславский — реформатор оперного искусства.— М., 1983. С. 151.
[32] Сов. культура. 1982. 18 июня.
[33] Правда, 1982. 8 июня.
[34] Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т.— М., 1950. Т. 6. С. 82.
[35] Луначарский А. В. О театре и драматургии: В 2 т. — М., 1958. Т. I. С. 155.
[36] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т.— М., 1952. Т. 8. С. 65.
[37] Таиров А. Я. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. — М., 1970. С. 278.
[38] Довженко А. П. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1968. Т. 4. С. 420.
[39] Чайковский П. И. Ук. собр. соч. Т. 15б.— М., 1977. С. 237.
[40] Там же. С. 110.
[41] Искусство кино. 1987. № 2. С. 105.
[42] Толстой Л. Н. Воскресенье.— М., 1976. С. 267.
[43] Сов. культура. 1984. 22 мая.
[44] Там же.
[45] Музыка в СССР. 1985. Октябрь — декабрь.
[46] Музыка в СССР. 1985. Октябрь — декабрь.
[47] Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. — М., 1961. Т. I. 289.
[48] Там же. С. 291.
[49] Там же. С. 287.
[50] Григорьев Л., Платек Я. Его выбрало время. — М., 1983. С. 97.
[51] Там же. С. 91.
[52] Правда. 1983. 28 июня.
[53] Сов. культура. 1983. 9 июня.
[54] Сов. культура. 1984. 13 сент.
[55] Правда. 1983. 10 июня.
[56] Сов. культура. 1983. 9 июня.
[57] Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т.— М., 1956. Т. 3. С. 49.
[58] Известия. 1983. 26 мая.
[59] Там же.
[60] Правда, 1983. 28 июня.
[61] Музыка в СССР. 1985. Июль — сент. С. 85.
[62] Муз. жизнь. 1985. № 12. С. 4.
[63] Сов. культура. 1985. 21 марта.
[64] Лит. газ. 1985. 15 мая.
[65] Мартынов И. И. Тихон Николаевич Хренников.— М., 1987. С. 94.
[66] Музыка в СССР. 1985. Окт.— дек. С. 24.
[67] Мартынов И. И. Ук. изд. С. 93.
[68] Моск. правда. 1985. 19 апр.
[69] Театр. 1987. № 8. С. 80.
[70] Лит. газ. 1985. 15 мая.
[71] Муз. жизнь. 1985. № 12. С. 5.
[72] Григорьев Л. Платек Я. Его выбрало время.— М., 1983. С. 241.
[73] Светланов Е. Музыка сегодня.— М., 1985. С. 149.
[74] Григорьев Л. Платек Я. Его выбрало время.— М., 1983. С. 66.
[75] Материалы II съезда Союза писателей СССР.— М„ 1956. С. 335.
[76] Правда. 1960. 7 сент.
[77] Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т.— М., 1950. Т. 6. С. 226.
[78] Там же. Т. 5. С. 221.
[79] Там же. Т. 6. С. 72.
[80] Цит. по: Емельянова Н. Композитор К. И. Массалитинов. — М., 1976. С. 117.
[81] Там же. С. 43.
[82] Край родной.— М., 1960. С. 4.
[83] Сов. Россия. 1958. 4 июля.
[84] Муз. жизнь. 1961. № 22. С. 4.
[85] Литература и жизнь, 1961. 25 окт.
[86] Сов. культура. 1961. 28 окт.
[87] Павлов И. П. Полн. собр. соч.— М.; Л., 1951. Т. 4. С. 248.
[88] Емельянова Н. Композитор К. И. Массалитинов.— М., 1976. С. 88.
[89] Там же. С. 92.
[90] Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т.— М., 1950. Т. 6. С. 212.
[91] Там же. С. 214.
[92] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т.— М., 1940. Т. 10. С. 208—209.
[93] Гоголь Н. В. О литературе.— М., 1952. С. 234.
[94] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В. 13 т.— М., 1957. Т. 4. С 174—175.
[95] Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1984. Т. 4. С. 467.
[96] Там же. С. 430.
[97] Там же.
[98] Там же. С. 8.
[99] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т.— М., 1949. Т. 5. С. 194.
[100] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т.— М., 1954. Т. 73. С. 353.
[101] Там же. Т. 74. С. 10.
[102] Там же. Т. 53. С. 300.
[103] Там же. Т. 74. С. 24.
[104] Цит. по: Соколова В. Сергей Васильевич Рахманинов.— М., 1987. С. 97.
[105] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т.— М., 1954. Т. 4. С. 175.
[106] Дарвин Ч. Полн. собр. соч.— М., 1927. Т. 2. Кн. 1. С. 140.
[107] Леонардо да Винчи. Избр. произведения: В 2 т.— М., 1935. Т. I. С. 144—145.
[108] Карамзин Н. Сочинения: В 2 т.— М., 1984. Т. 2. С. 60.
[109] Маяковский В. Собр. соч.: В 8 т.— М., 1968, Т. 3. С. 435.
[110] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т.— М., 1950. Т. 30. С. 56.
